Esquire Kazakshtan публикует рассказ американского писателя Кристофера Меркнера, ставший победителем конкурса О. Генри в 2015 году.
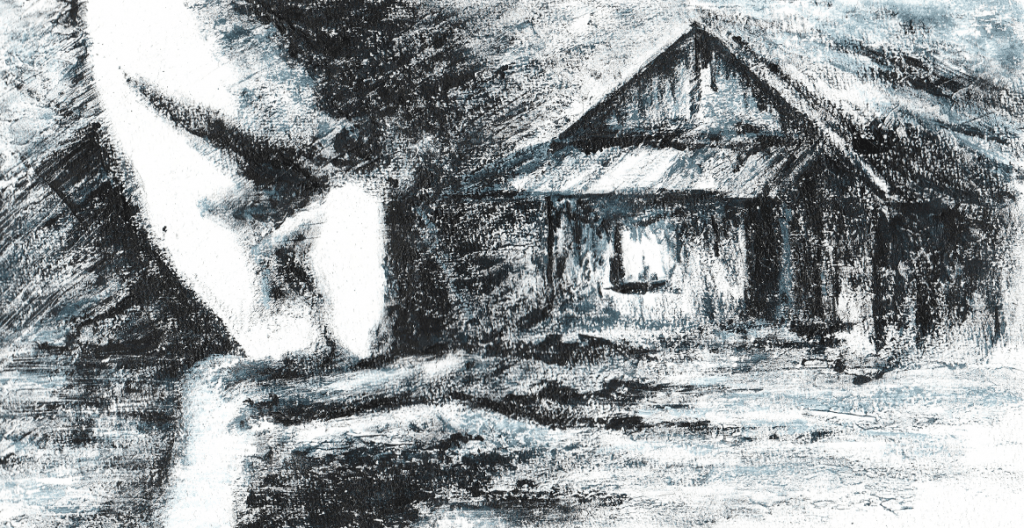 1.
Полагая, что мой приятель по-прежнему счастлив в браке, я сказал ему, что не могу вообразить жизнь поблизости от жены после развода. «Я всегда представлял, – говорил я, что если разведусь, буду жить один где-нибудь в глуши». У меня есть хижина. У меня есть лодка. Я вижу свою маленькую хижину прямо из лодки. Вода шлепает по лодке. Я сижу на высоком стуле, подергивая блесной, которая проносится по поверхности воды, когда я наматываю леску на катушку. Жены рядом нет. Ни в хижине, ни где бы то ни было в моей разведенной жизни ее не увидеть, не услышать и не унюхать.
А я скучаю по ней. Я угрюм и разбит из-за того, что в хижине нет ее. Если мне не быть с ней, не нужно никого и ничего, кроме моей хижины и моей лодки. Мысль о том, что я буду видеться с ней лишь изредка, невозможна. Подобная унизительная нелепость встречается только в дешевых сериалах. Я много хожу и много пью. Иногда, напившись, иду вдоль трассы в бар только для того, чтобы продолжить там напиваться. Иногда в баре со мной флиртуют местные барышни, но я прожил в тех краях достаточно долго, и так часто, с такой горечью отвергал их заигрывания, что теперь они почти всегда просто стоят в глубине бара и называют меня по имени, которое для меня придумали – Глаза Лани, а мне все эти годы слышится – Глаза Вани, и они жалеют меня, как жалеют сбитых на трассе животных. Пьяный, я ковыляю обратно к хижине, сплю, рыбачу. У меня нет ни малейшего представления, откуда у меня берутся деньги.
– Извини, – сказал я приятелю. – Я просто выдумываю всю эту хрень.
2.
Незадолго до этого, другой приятель позвонил мне и пригласил в ту часть города, куда я раньше и не думал соваться. Той ночью, двигаясь по правой полосе, я увидел через окно с пассажирской стороны табличку с адресом, который он мне дал. Это была кальянная. Я припарковался и вошел в зал. Он сидел в кабинке в одиночестве. Я скользнул по скамейке и уселся напротив.
– У меня новости, – сказал он.
– Ты умираешь, – сказал я.
– Немного, – сказал он.
– Хорошее заведение, – сказал я.
Он окинул взглядом помещение. Сказал:
– О, да, дружище!
Потом сказал, что походы по таким местам – часть его новой жизненной философии. Закусил черный резиновый мундштук. Затянулся, я ждал, он закашлялся. Протянул мундштук мне. Я принял его и просто держал. Осматривался, пока он прочищал легкие. Я не видел такого скопления молодежи в одном месте со студенческих пор. Я чувствовал себя старым и нелепым, с мундштуком в руке. Отдал его приятелю. Он сказал, что разводится. Потом снова вложил мундштук в рот и закрыл глаза.
Я боролся с позывом позвонить жене. Держал руку на телефоне. Вместо этого встал и заказал праздничный кусок пирога. Мы с женой часто обсуждали этих двоих. Мы очень хотели от них отделаться. Нас тошнило от того, как они, вроде бы, любили друг друга. Он всегда указывал ей; она всегда посылала его на х*й. Потом они смеялись. Мы думали, что они вот так вот и будут всегда жить вместе.
Я вернулся за стол и смотрел, как из пирога сочится струйка жира. Приятель в подробностях рассказал об измене жены, он сравнивал это с булавкой, которая проткнула их воздушный шарик. Судя по всему, жена знала того мужика не один десяток лет. Они дружили в старших классах. Много лет не общались, и вдруг, по причинам ведомым только Господу Богу, их «души нашли друг друга» в районном автосалоне субботним вечером. После нескольких десятилетий жизни в браке с другими людьми, сказал мне приятель, его жена и этот парень просто случайно встретились.
– Не их «родственные души», – уточнил он. Просто их «души».
– Эх, – сказал я.
– В любом случае, – добавил он, отвернувшись от мундштука через мгновение после того, как поднес его ко рту, – всем бы такого везения. – Он затянулся, выдохнул и закашлялся.
Я сказал: «Хорошо».
Он стал объяснять, что его жена и ее новый мужик много думали друг о друге последние лет десять. Все это время они не знали, что живут в одном городе. «Похоже, – сказал мой приятель, сохраняя непроницаемое лицо, – этот парень каждый год готовил праздничный торт для моей жены и отмечал ее день рождения. Потом выкидывал торт в мусорную яму в саду и сжигал».
– А что будет с дочками? – cпросил я.
– Мои родители разведены, – ответил он.
Я кивнул.
– Значит ты им уже все рассказал?
– Они знают.
Я снова кивнул. Он в очередной раз глубоко затянулся через мундштук и поднял на меня глаза.
– Родитель-одиночка, – выговорил он, не выдыхая дым. – Это нынче в почете.
– Ты мне сейчас слегка выносишь мозг, – сказал я.
Он выдохнул. Сказал: «Да». Не закашлялся. Начал изучать кальян, как будто только что осознал, что этот артефакт все время стоял между нами.
– Ну вот, – сказал он, – в общем, я просто хочу себя убить.
3.
Я отвел его к своей машине. Старался выглядеть расслабленным. Бросил в адрес автомобиля пару ругательств. Он рассмеялся. Казалось, он был в порядке. Однако, когда мы въехали в его район, начал стучаться головой о боковое стекло. Я наблюдал за ним краем глаза. Заговорил о сердечном приступе, который случился со мной прошлой осенью. Он сказал, что слышал об этом. Сказал, что сочувствует. Ему явно было все равно, но мне казалось, что было правильно поговорить о себе. Я полагал, что тем самым помещаю наши с ним злоключения в более широкий контекст. Я в подробностях поведал ему все, что мог вспомнить о катетере. Остановив машину напротив его дома, я протянул ему руку:
– Спасибо, – сказал я.
Он не двинулся с места. Не взял моей руки. Просто уставился в пространство перед собой.
– Вы все еще живете вместе? – спросил я.
Он кивнул.
– Это больно, – сказал я.
– Надо думать, – сказал он. Пригласил меня войти. Сказал, что в холодильнике есть пиво.
Я сказал, что сначала должен позвонить жене.
Он клацнул зубами. «Ах», – сказал он и погрозил пальцем перед моим лицом.
– Знаю, – сказал я, – знаю. Я выдавил из себя смешок. Посмотрел на телефон.
Он не шевелился.
– Я поднимусь через минуту, – сказал я. – Не запирай дверь.
– Я не хочу больше оставаться с ней наедине в этом доме.
Я набрал жене. Она не сняла трубку. Включился автоответчик. Я оставил туманное сообщение о том, что «уже еду» и воздержался от слов любви, которые обязательно произнес бы, не сиди сейчас рядом со мной разведенный приятель.
Мы поднялись к дому и вошли. Было темно.
– Ничего не вижу, – сказал я.
– Она где-то здесь, дома, – сказал он.
4.
Лежа в кровати тем же вечером, когда я рассуждал о своей хижине на случай развода, я перекатился и посмотрел на жену. Она читала книгу о вязании крючком и шитье. Я сказал: «Если мы вдруг разведемся, с кем останется ребенок?»
5.
На следующее утро я играл в баскетбол с третьим приятелем, которого считал женатым. Я рассказал ему о недавно выявившихся разводах среди знакомых. Сказал, что не понимаю тех, кто разводится. «Кажется, – сказал я, – для этого требуется провести невероятно большую работу». Я сделал бросок из-под кольца. Приятель какое-то время молчал, а потом заявил, что всегда считал женатиков идиотами, психика которых покорежена открыточными стереотипами. Я бросил ему мяч и сказал, что открытки Майи Анжелу вполне себе ничего.
– Это потому, что ты гей, – сказал он.
Я спустил это на тормозах. Он не учился в школе, этот мой приятель. Я всегда считал его грубоватым, но порядочным человеком – простой парень, чьи ценности и приоритеты мне были близки. Но на самом деле я не знал этого наверняка. Я сказал: «Разве это не ко всем относится?»
Он левой забросил двухочковый и взглянул на меня. Покрутил головой:
– Не-а, – сказал он.
– Готов поспорить, твоя жена рада вашему браку, – сказал я.
– Тогда бы она все не прое*ывала, – сказал он.
Потом добавил:
– Мы разбежались в прошлом году.
– Да ну, – сказал я.
Он вел мяч, пропуская его между ног.
– Я был в этом браке, как глухонемая Хелен Келлер, которую одурманили наркотой. Я рас *ерачил все, что было в доме. Этот брак влетел нам в копеечку. Я только стен наломал тысяч на десять долларов.
Он ворвался в трехсекундную зону. Я этому не препятствовал. Он положил мяч в кольцо.
Я познакомился с этим парнем здесь, на спортивной площадке, примерно тогда, когда слег от сердечного приступа. В первый раз, когда мы вдвоем бросали мяч, он притащил пива и склонил меня к тому, чтобы прикончить с ним весь ящик. И мы могли бы в этом преуспеть, если бы он не сломал ногу, пытаясь поймать отскочивший мяч, пока тот не угодил под небольшую алюминиевую трибуну у эвакуационного выхода. Пришлось отвезти его в больницу. Мы оба были пьяны. Какое-то время я сидел там вместе с его женой, женщиной холодной и невозмутимой. Потом я задремал. Когда проснулся, ее уже не было. Я просто сидел один в вестибюле больницы. Я подумал, что она отлучилась за кофе. Я просидел там два часа. Пошел в сестринскую разузнать, как обстоят дела. Приятеля уже выписали…
Я бросил по кольцу с пары метров. Мяч ударился о кромку, отскочил обратно прямо мне в руки. Я снова бросил:
– Чем теперь занимаешься? Встречаешься с кем-нибудь?
Он сказал, что трахает мою мать. Подхватил мяч с травы и убежал в другой конец площадки. Прибежал назад. Встал прямо напротив меня. Потребовал убрать с лица это выражение. Сказал, его от этого тошнит. «Брак? – сказал он, – меня от этого тошнит». Потом он ушел, забрав мяч с собой.
6.
Это прекрасная хижина. Я много думаю о ней. Часто там бываю. Когда я в ней живу, питаюсь ягодами и окунем. Зимой, однако, температура в среднем минус десять. Ем я очень мало, но много пью. В процессе заливания за воротник я занимаюсь утеплением стен хижины. Иногда я засыпаю с инструментом, зажатым в кожаной варежке. Я не вижу снов. Часто просыпаюсь и выпиваю еще, затем выхожу из хижины и направляюсь в городской бар. Я ни с кем там не разговариваю. Иногда заговаривают со мной, советуют мне принять душ. А еще показать щеки и нос доктору, так как, похоже, оголенная плоть начинает чернеть от обморожения. «Ты уже утеплил эту берлогу?» – спрашивают они.
И тогда я обычно возвращаюсь в хижину, где женщина из Скандинавии белой тряпкой протирает кухонную столешницу. В комнате горят свечи. Она развела огонь в камине, а я не помню, чтобы встраивал его в дощатую стену. Она украсила хижину милыми красными и синими тканями и гобеленами с цветочными узорами. На ней передник. На голове повязан шарф, из-под которого струятся длинные светлые волосы. Она приносит мне чашку горячего шоколада. Она говорит, что она та самая Суисс Мисс с упаковки какао, только повзрослела и спустилась с гор, чтобы стать моей женой и родить мне здоровых деток. Она в меня влюблена, она знает, что это неожиданно. Она говорит: «Ах, Глаза Лани». И целует меня в глаза, и, хотя доски хижины вспыхнули и горят вокруг нас, я молчу, потому что внутри я очень холоден, очень холоден.
1.
Полагая, что мой приятель по-прежнему счастлив в браке, я сказал ему, что не могу вообразить жизнь поблизости от жены после развода. «Я всегда представлял, – говорил я, что если разведусь, буду жить один где-нибудь в глуши». У меня есть хижина. У меня есть лодка. Я вижу свою маленькую хижину прямо из лодки. Вода шлепает по лодке. Я сижу на высоком стуле, подергивая блесной, которая проносится по поверхности воды, когда я наматываю леску на катушку. Жены рядом нет. Ни в хижине, ни где бы то ни было в моей разведенной жизни ее не увидеть, не услышать и не унюхать.
А я скучаю по ней. Я угрюм и разбит из-за того, что в хижине нет ее. Если мне не быть с ней, не нужно никого и ничего, кроме моей хижины и моей лодки. Мысль о том, что я буду видеться с ней лишь изредка, невозможна. Подобная унизительная нелепость встречается только в дешевых сериалах. Я много хожу и много пью. Иногда, напившись, иду вдоль трассы в бар только для того, чтобы продолжить там напиваться. Иногда в баре со мной флиртуют местные барышни, но я прожил в тех краях достаточно долго, и так часто, с такой горечью отвергал их заигрывания, что теперь они почти всегда просто стоят в глубине бара и называют меня по имени, которое для меня придумали – Глаза Лани, а мне все эти годы слышится – Глаза Вани, и они жалеют меня, как жалеют сбитых на трассе животных. Пьяный, я ковыляю обратно к хижине, сплю, рыбачу. У меня нет ни малейшего представления, откуда у меня берутся деньги.
– Извини, – сказал я приятелю. – Я просто выдумываю всю эту хрень.
2.
Незадолго до этого, другой приятель позвонил мне и пригласил в ту часть города, куда я раньше и не думал соваться. Той ночью, двигаясь по правой полосе, я увидел через окно с пассажирской стороны табличку с адресом, который он мне дал. Это была кальянная. Я припарковался и вошел в зал. Он сидел в кабинке в одиночестве. Я скользнул по скамейке и уселся напротив.
– У меня новости, – сказал он.
– Ты умираешь, – сказал я.
– Немного, – сказал он.
– Хорошее заведение, – сказал я.
Он окинул взглядом помещение. Сказал:
– О, да, дружище!
Потом сказал, что походы по таким местам – часть его новой жизненной философии. Закусил черный резиновый мундштук. Затянулся, я ждал, он закашлялся. Протянул мундштук мне. Я принял его и просто держал. Осматривался, пока он прочищал легкие. Я не видел такого скопления молодежи в одном месте со студенческих пор. Я чувствовал себя старым и нелепым, с мундштуком в руке. Отдал его приятелю. Он сказал, что разводится. Потом снова вложил мундштук в рот и закрыл глаза.
Я боролся с позывом позвонить жене. Держал руку на телефоне. Вместо этого встал и заказал праздничный кусок пирога. Мы с женой часто обсуждали этих двоих. Мы очень хотели от них отделаться. Нас тошнило от того, как они, вроде бы, любили друг друга. Он всегда указывал ей; она всегда посылала его на х*й. Потом они смеялись. Мы думали, что они вот так вот и будут всегда жить вместе.
Я вернулся за стол и смотрел, как из пирога сочится струйка жира. Приятель в подробностях рассказал об измене жены, он сравнивал это с булавкой, которая проткнула их воздушный шарик. Судя по всему, жена знала того мужика не один десяток лет. Они дружили в старших классах. Много лет не общались, и вдруг, по причинам ведомым только Господу Богу, их «души нашли друг друга» в районном автосалоне субботним вечером. После нескольких десятилетий жизни в браке с другими людьми, сказал мне приятель, его жена и этот парень просто случайно встретились.
– Не их «родственные души», – уточнил он. Просто их «души».
– Эх, – сказал я.
– В любом случае, – добавил он, отвернувшись от мундштука через мгновение после того, как поднес его ко рту, – всем бы такого везения. – Он затянулся, выдохнул и закашлялся.
Я сказал: «Хорошо».
Он стал объяснять, что его жена и ее новый мужик много думали друг о друге последние лет десять. Все это время они не знали, что живут в одном городе. «Похоже, – сказал мой приятель, сохраняя непроницаемое лицо, – этот парень каждый год готовил праздничный торт для моей жены и отмечал ее день рождения. Потом выкидывал торт в мусорную яму в саду и сжигал».
– А что будет с дочками? – cпросил я.
– Мои родители разведены, – ответил он.
Я кивнул.
– Значит ты им уже все рассказал?
– Они знают.
Я снова кивнул. Он в очередной раз глубоко затянулся через мундштук и поднял на меня глаза.
– Родитель-одиночка, – выговорил он, не выдыхая дым. – Это нынче в почете.
– Ты мне сейчас слегка выносишь мозг, – сказал я.
Он выдохнул. Сказал: «Да». Не закашлялся. Начал изучать кальян, как будто только что осознал, что этот артефакт все время стоял между нами.
– Ну вот, – сказал он, – в общем, я просто хочу себя убить.
3.
Я отвел его к своей машине. Старался выглядеть расслабленным. Бросил в адрес автомобиля пару ругательств. Он рассмеялся. Казалось, он был в порядке. Однако, когда мы въехали в его район, начал стучаться головой о боковое стекло. Я наблюдал за ним краем глаза. Заговорил о сердечном приступе, который случился со мной прошлой осенью. Он сказал, что слышал об этом. Сказал, что сочувствует. Ему явно было все равно, но мне казалось, что было правильно поговорить о себе. Я полагал, что тем самым помещаю наши с ним злоключения в более широкий контекст. Я в подробностях поведал ему все, что мог вспомнить о катетере. Остановив машину напротив его дома, я протянул ему руку:
– Спасибо, – сказал я.
Он не двинулся с места. Не взял моей руки. Просто уставился в пространство перед собой.
– Вы все еще живете вместе? – спросил я.
Он кивнул.
– Это больно, – сказал я.
– Надо думать, – сказал он. Пригласил меня войти. Сказал, что в холодильнике есть пиво.
Я сказал, что сначала должен позвонить жене.
Он клацнул зубами. «Ах», – сказал он и погрозил пальцем перед моим лицом.
– Знаю, – сказал я, – знаю. Я выдавил из себя смешок. Посмотрел на телефон.
Он не шевелился.
– Я поднимусь через минуту, – сказал я. – Не запирай дверь.
– Я не хочу больше оставаться с ней наедине в этом доме.
Я набрал жене. Она не сняла трубку. Включился автоответчик. Я оставил туманное сообщение о том, что «уже еду» и воздержался от слов любви, которые обязательно произнес бы, не сиди сейчас рядом со мной разведенный приятель.
Мы поднялись к дому и вошли. Было темно.
– Ничего не вижу, – сказал я.
– Она где-то здесь, дома, – сказал он.
4.
Лежа в кровати тем же вечером, когда я рассуждал о своей хижине на случай развода, я перекатился и посмотрел на жену. Она читала книгу о вязании крючком и шитье. Я сказал: «Если мы вдруг разведемся, с кем останется ребенок?»
5.
На следующее утро я играл в баскетбол с третьим приятелем, которого считал женатым. Я рассказал ему о недавно выявившихся разводах среди знакомых. Сказал, что не понимаю тех, кто разводится. «Кажется, – сказал я, – для этого требуется провести невероятно большую работу». Я сделал бросок из-под кольца. Приятель какое-то время молчал, а потом заявил, что всегда считал женатиков идиотами, психика которых покорежена открыточными стереотипами. Я бросил ему мяч и сказал, что открытки Майи Анжелу вполне себе ничего.
– Это потому, что ты гей, – сказал он.
Я спустил это на тормозах. Он не учился в школе, этот мой приятель. Я всегда считал его грубоватым, но порядочным человеком – простой парень, чьи ценности и приоритеты мне были близки. Но на самом деле я не знал этого наверняка. Я сказал: «Разве это не ко всем относится?»
Он левой забросил двухочковый и взглянул на меня. Покрутил головой:
– Не-а, – сказал он.
– Готов поспорить, твоя жена рада вашему браку, – сказал я.
– Тогда бы она все не прое*ывала, – сказал он.
Потом добавил:
– Мы разбежались в прошлом году.
– Да ну, – сказал я.
Он вел мяч, пропуская его между ног.
– Я был в этом браке, как глухонемая Хелен Келлер, которую одурманили наркотой. Я рас *ерачил все, что было в доме. Этот брак влетел нам в копеечку. Я только стен наломал тысяч на десять долларов.
Он ворвался в трехсекундную зону. Я этому не препятствовал. Он положил мяч в кольцо.
Я познакомился с этим парнем здесь, на спортивной площадке, примерно тогда, когда слег от сердечного приступа. В первый раз, когда мы вдвоем бросали мяч, он притащил пива и склонил меня к тому, чтобы прикончить с ним весь ящик. И мы могли бы в этом преуспеть, если бы он не сломал ногу, пытаясь поймать отскочивший мяч, пока тот не угодил под небольшую алюминиевую трибуну у эвакуационного выхода. Пришлось отвезти его в больницу. Мы оба были пьяны. Какое-то время я сидел там вместе с его женой, женщиной холодной и невозмутимой. Потом я задремал. Когда проснулся, ее уже не было. Я просто сидел один в вестибюле больницы. Я подумал, что она отлучилась за кофе. Я просидел там два часа. Пошел в сестринскую разузнать, как обстоят дела. Приятеля уже выписали…
Я бросил по кольцу с пары метров. Мяч ударился о кромку, отскочил обратно прямо мне в руки. Я снова бросил:
– Чем теперь занимаешься? Встречаешься с кем-нибудь?
Он сказал, что трахает мою мать. Подхватил мяч с травы и убежал в другой конец площадки. Прибежал назад. Встал прямо напротив меня. Потребовал убрать с лица это выражение. Сказал, его от этого тошнит. «Брак? – сказал он, – меня от этого тошнит». Потом он ушел, забрав мяч с собой.
6.
Это прекрасная хижина. Я много думаю о ней. Часто там бываю. Когда я в ней живу, питаюсь ягодами и окунем. Зимой, однако, температура в среднем минус десять. Ем я очень мало, но много пью. В процессе заливания за воротник я занимаюсь утеплением стен хижины. Иногда я засыпаю с инструментом, зажатым в кожаной варежке. Я не вижу снов. Часто просыпаюсь и выпиваю еще, затем выхожу из хижины и направляюсь в городской бар. Я ни с кем там не разговариваю. Иногда заговаривают со мной, советуют мне принять душ. А еще показать щеки и нос доктору, так как, похоже, оголенная плоть начинает чернеть от обморожения. «Ты уже утеплил эту берлогу?» – спрашивают они.
И тогда я обычно возвращаюсь в хижину, где женщина из Скандинавии белой тряпкой протирает кухонную столешницу. В комнате горят свечи. Она развела огонь в камине, а я не помню, чтобы встраивал его в дощатую стену. Она украсила хижину милыми красными и синими тканями и гобеленами с цветочными узорами. На ней передник. На голове повязан шарф, из-под которого струятся длинные светлые волосы. Она приносит мне чашку горячего шоколада. Она говорит, что она та самая Суисс Мисс с упаковки какао, только повзрослела и спустилась с гор, чтобы стать моей женой и родить мне здоровых деток. Она в меня влюблена, она знает, что это неожиданно. Она говорит: «Ах, Глаза Лани». И целует меня в глаза, и, хотя доски хижины вспыхнули и горят вокруг нас, я молчу, потому что внутри я очень холоден, очень холоден.
 7.
Четвертым счастливо женатым приятелем, оказавшимся на деле разведенным, был мой бывший сосед. Он проезжал мимо своего прежнего дома, как это часто бывало, увидел меня за прополкой сорняков в переднем дворе и остановился. Опустил окно. Сказал, что держит путь в городскую тюрьму. Что основал психотерапевтическую группу для заключенных, которые проходили через развод, уже развелись или боялись скорого расставания с партнерами или супругами.
– Тебе нужно поехать со мной, – сказал он.
Я подошел к его машине. Засмеялся:
– Ты четвертый человек за последние несколько дней, который заговаривает со мной о разводе. Что же такое происходит?
– Тебе нужно поехать со мной, – повторил он.
– Зачем мне это?
– Сочувствие, – сказал он.
Мой приятель не психотерапевт. Он хирург-ветеринар, специалист по генетическим заболеваниям глаза. Они с женой были нашими соседями несколько лет. Развелись незадолго до того, как съехали. Они выставляли свой развод на всеобщее обозрение с необычайным рвением. Устраивали дома ожесточенные ссоры с распахнутыми настежь окнами, и затем также ожесточенно, не закрывая окон, занимались любовью. Даже самые тактичные и сдержанные соседи открыто осуждали их. Нередко они выкрикивали в адрес друг друга слово «развод». Это слово так часто сотрясало воздух, что как бы стало третьим участником этих сеансов ругани и секса.
– Слушай, – сказал я, – когда вы осознали, что пора разводиться?
– Как только поженились, – ответил он.
8.
Та самая ночь, я рассказываю жене о всех своих друзьях, которые неожиданно разводятся. Рассказываю о наших бывших соседях и о посещении городской тюрьмы. Моя голова лежит у нее на коленях. Я поднимаю на нее глаза, а она спит.
Она очень беременна. Глубоко в нашей беременности. Она спит даже когда бодрствует. Я продолжаю говорить. Я рассказываю о том первом парне, который говорил, что скоро разводится, и что он по-прежнему живет с женой. Я сказал, что первое мое желание, когда я об этом услышал, было рассказать ей. Я говорю, что не знал поначалу, как разговаривать с человеком в его положении. Я говорю, что не осознавал, что в мире так много разводов. «Я не знаю, – говорю я ей, – что делал бы, разведись мы с ней».
Я наблюдаю, как эти фразы порхают и растворяются в тишине гостиной, и снова смотрю на жену. Она прелестна во сне. «Ну, в общем, я пытался позвонить тебе. Ты не ответила. И мы пошли в дом. Он позвал меня на кухню взять пива. Я пошел. Спросил, надо ли разуться. Он засмеялся. Я спросил, стоит ли включить свет. Мы вошли в кухню и остановились друг напротив друга у стола в центре. Свет не включали. Лунный свет с улицы падал на его лицо. Он уставился на меня и просто смотрел, или мне так показалось. «Ты в порядке?» – спросил я.
– Грустно, – сказал он.
Он развернулся, распахнул освещенный яркой луной холодильник, достал бутылку пива и отвернул крышку. Отпил глоток и запустил бутылку в моем направлении по поверхности стола. Я посмотрел на бутылку. Он сказал:
– Ты хочешь свою собственную?
Вернулся к холодильнику. Вытащил другую бутылку, рукой снял крышку, потом остановился и стоял в оцепенении.
– Что? – спросил я.
Он прошептал:
– Слушай.
– Слышу как работает вентилятор, – сказал я.
– Я слышу ее дыхание, – сказал он.
– Хорошо.
– Я слышу, как она дышит, – сказал он.
Потом я тоже кое-что услышал. Я услышал шаги на лестнице. Сначала он были тихие, а затем его дочки, тараторя, ворвались в кухню. Вдруг стало очень шумно. Мы зажгли свет. Это были его девочки, на их лицах сияли улыбки. Они смотрели на меня и разговаривали с ним. Они так радовались, что он дома. Они так радовались тому, что могут позавтракать в темноте. Спросили у него, почему от нас пахнет дымом».
9.
Я сел к нему в машину. Спросил, как он связался с этой психотерапевтической группой, и он рассказал мне, что сам решил этим заняться. Сказал, что просто однажды проезжал мимо тюрьмы, вскоре после развода с женой, и подумал: наверняка там много одиноких парней, которые чувствуют то же, что и я. Он рассказал мне, как подошел к главным воротам, спросил начальника, спросил, может кому-нибудь из заключенных было бы интересно собираться в неформальной обстановке, чтобы поговорить о любви и о вещах, которые происходят в ее отсутствие. Начальник тюрьмы посмеялся, сказал, что сомневается, но что мой приятель может получить одноразовый пропуск, посидеть во дворе во время получасового обеда на свежем воздухе, и посмотреть, подойдет ли к нему кто-нибудь.
– И теперь догадайся, кто каждую неделю посещает мою маленькую группу из сорока пяти человек?
– Начальник тюрьмы?
– Он самый, – сказал мой друг. Он выглядел грустным и задумчивым. Люблю этого жирного придурка.
Мы сидели в его машине, разглядывая наши дома. Он замолчал. Мне нечего было добавить. На самом деле занятно было просто сидеть и смотреть на наши дома. Я сделал глубокий вдох.
– Тебе нравятся новые владельцы? – спросил он.
– Нормальные.
– Они разочаруют тебя, – сказал он. – Так всегда происходит с соседями.
На деле, у нас было мало общего, кроме границы наших участков.
Мы ехали молча, и когда добрались до тюрьмы, я узнал, что местная парковка представляет собой огромную, просто гигантскую, грунтовую пустыню, раскинувшую на много миль вокруг свои неоглядные просторы. Из любой конкретной точки в этой пустыне нужно пройти пешком около четверти мили, прежде чем окажешься у крошечного, окруженного забором с колючей проволокой, входа в тюрьму. Когда тебя пропускают внутрь, ты проходишь по лабиринту коридоров из темных цементных блоков без единого окна, тебя обыскивают и сканируют каждый раз при проходе через стальные решетки ворот, которых было около пяти между входом в тюрьму и открытой поляной, где в течение получаса позволяется обедать избранным заключенным. Мы с приятелем прошли всю дорогу, не сказав ни слова.
На поляне уже собралось много парней, дожидавшихся моего приятеля и бывшего соседа. Они сидели на траве, скрестив ноги. Пока мы шли к ним, они меня внимательно разглядывали. Я сел. Мой приятель вышел вперед и остался стоять. Он поднял руки и, когда все затихли, поблагодарил всех за участие и за желание «увидеть мир за пределами любви». Мужчины закивали. Мой приятель продолжал. Немного поговорил об «истинно большом несчастье, когда видишь любовь там, где ее на самом деле нет», и в качестве примера привел двух слепых псов, которых он полюбил в бытность интерном в ветеринарной клинике в Северной Каролине. Собаки умерли. Как-то утром он обнаружил, что они подохли. «Их больше не было», – сказал он, и его голос задрожал. Он щелкнул пальцами. Прочистил горло. Сказал, что он был опустошен. Сказал, что никогда не чувствовал себя настолько опустошенным. «Никакое опустошение не могло с этим сравниться», – сказал он. Он сказал, что думает, что мы все знаем, о чем идет речь.
Солнце припекало на редкость сильно. Я осмотрелся. Одно было ясно, судя по выражениям лиц мужчин в этой группе: говорить о дохлых псах было плохой идеей. Им это не понравилось. Кто-то встал. Из-за этого всполошились те, кто еще сидел. Мой приятель продолжал говорить, будто реплики, которыми перекидывались эти мужчины, были пустяшны, приглушены. «Дохлые псы, – сказал он, – это просто метафора. Они не умерли». Один мужик встал, толкнул другого в спину и назвал его сукой. Начальник двинулся с места, перекатился на колени и встал. Я попытался подняться, когда трое или четверо прижали меня к земле и набросились на начальника и того парня, которого обозвали сукой. Они пинали его по голове. Я видел как его голова перемещается по жутким траекториям. Страшно смотреть, как трое или четверо пинают человека по голове. Потом раздались выстрелы и двор заполнился оружием и криками. Я лежал лицом вниз, пригвожденный к земле. Я видел, что остальные тоже были пригвождены к земле.
10.
Я взглянул на жену. Она по-прежнему крепко спала. Ребенок должен родиться через несколько недель, и она спит так тяжело, урывками и в таких неестественных перекрученных позах, что я поражаюсь, когда замечаю эту безмятежность, временами проступающую в чертах ее лица. Мы женаты шесть лет. Мы тщательно все спланировали, стратегически выверили, несмотря на неестественный в моем возрасте сердечный приступ и двойное шунтирование, которое я пережил в прошлом году. Мы были готовы, по крайней мере я так думал до нынешнего потока разводов, воспитывать ребенка. Я говорю ей, что мне не по себе от того, что все кругом разводятся. «Это сумасшествие, – говорю я. – Что это вообще такое, эти разводы?»
11.
Со временем мой друг зажег еще несколько светильников и, похоже, расслабился. Он рассказывал девочкам какие-то дурацкие истории, а я пил вторую бутылку пива. Работал телевизор. Дочки рассказывали мне о своем любимом вечернем телешоу. Они говорили, что Джимми Киммел был «сутник», а еще он был немного «сишной». Обеим было не больше шести. Мой приятель посмотрел на меня и пожал плечами.
Тут я заметил, что на кухне материализовалась жена моего приятеля, одетая в голубой халат. В руках у нее была бутылка пива. Она стояла у входа, на границе кухни и гостиной. Она спросила, во сколько мы вернулись домой. Мой друг молчал, я ответил. Сказал, что был рад видеть ее снова.
– Да? – сказала она.
Она спросила меня о жене. Я спросил ее о газоне. Пожаловался на рынок недвижимости. Она сказала, что, как ни странно, любит африканское просо. Мы продолжали в том же духе несколько минут, болтая ни о чем, мой друг играл с дочками у телевизора. Она подошла ко мне и села на ручку кресла. Она казалась совершенно расслабленной. Лишь несколько раз взглянула в сторону мужа.
– Ну, – сказал я.
Я встал, намереваясь уходить. Она посмотрела на меня с удивлением.
– Ах, – сказала она. – Тебе не нужно никуда уходить.
– Нет, – сказал я.
– Выпей еще бутылочку пива, – сказала она.
Она встала и пошла к холодильнику, невзирая на мои замечания, что мне не стоит больше пить, открыла эту бутылочку, рукой открутив крышку, и принесла ее мне. Вернулась к холодильнику, открыла еще одну, и отдала ее мужу. Потом сказала мужу, моему приятелю, сесть на диван. Он послушался. Поднялся с пола и упал на диван. Она уселась к нему на колени.
– Что еще нового? – спросила она меня.
«Я слышал вы разводитесь», – хотел сказать я.
– Почти ничего, – сказал я.
Моя жена спит, пока я ей все это говорю. Я говорю, что, когда я поднял взгляд, я увидел, как они – мой приятель и его жена – целуются на диване и предположил сперва, что это было нечто вроде стремительного примирения. Я посмотрел на девочек, которые тоже смотрели на моего приятеля и его жену.
Они продолжали целоваться. Я снова посмотрел на девочек. По телевизору шла реклама. Я увидел язык жены моего друга, его рука скользнула внутрь ее халата. Оба до сих пор держали пиво. Как только он уронил бутылку на ковер, я встал. Погладил девочек по голове. Они восприняли это как сигнал.
Они вышли со мной из комнаты, как будто собирались проводить меня до двери. Вместо этого они сразу пошли вверх по лестнице в свои спальни.
– Спокойной ночи, – прошептал я им.
И они обернулись.
12.
Мой кардиолог уделял мне особое внимание, когда я лежал в больнице с сердечным приступом и готовился к операции. Он часто заходил в мою палату. Мало разговаривал, но с какой-то серьезной решимостью проверял показания приборов, листал страницы, вбивал что-то в свой компьютер. Вечером накануне операции, когда уже никого не было, он вошел ко мне в палату и закрыл дверь. Сел на край кровати. Сказал:
– Знаешь, что тебе нужно?
– Обняться?
Он посмотрел на часы:
– Я считаю, что большинству сердечников нужен кто-то, кто напугает их до полусмерти.
– Хорошо, – сказал я.
– Если ты не поменяешь образ жизни...
Он посмотрел на меня и достал из кармана халата макет человеческого сердца, впился пальцами в макет и начал рвать его на части. Он раскидал резиновые обрывки по простыням и ушел.
13.
– Давай, – сказала старшая дочь.
Она звала меня. Я пошел за ней. Поднявшись по лестнице, мы повернули направо и вошли в комнату, освещённую огнями свечей. На стенах комнаты были чучела убитых на охоте животных. Я уперся взглядом в голову зебры.
– Господи Иисусе, – сказал я.
Старшая дочь рассказала мне, что зебру зовут Беверли. Лису звали Ленни, фазана – Дженнифер, а дикая индейка вообще никак не звалась, потому что ее убили только этим утром.
14.
Я поднимаю голову с коленей жены и сажусь в кровати. Передвигаю диванные подушки, слегка подпрыгиваю, чтобы разбудить ее. Она просыпается. Улыбается. Потирает лицо. Потягивается и опускает руки на живот, к нашему малышу, шевелящемуся внутри. Она говорит, что чувствует себя адски плохо, я говорю, что понимаю. Она закатывает глаза. «Отнеси меня наверх», – говорит она. Я думаю. Думаю, стоит ли нести ее. Думаю о том, сколько она весит. «Давай же», – говорит она. Я просовываю руку ей под ноги. Поддерживаю спину. Поднимаю. Ее глаза закрываются. Рот округляется. Прохладно. Дорожка из гравия освещена лишь слабым светом луны. Дует ветерок. Взывают сверчки. Я слышу, как волны бьются о берег. Слышу, как моя лодка трется о деревянный пирс. Швартовочные тросы ноют от натяжения. В хижине темно. Я укладываю жену в скрипучую кровать. Распрямляюсь и смотрю на ее силуэт. Было не просто донести ее. И зачем мы забрались так далеко.
7.
Четвертым счастливо женатым приятелем, оказавшимся на деле разведенным, был мой бывший сосед. Он проезжал мимо своего прежнего дома, как это часто бывало, увидел меня за прополкой сорняков в переднем дворе и остановился. Опустил окно. Сказал, что держит путь в городскую тюрьму. Что основал психотерапевтическую группу для заключенных, которые проходили через развод, уже развелись или боялись скорого расставания с партнерами или супругами.
– Тебе нужно поехать со мной, – сказал он.
Я подошел к его машине. Засмеялся:
– Ты четвертый человек за последние несколько дней, который заговаривает со мной о разводе. Что же такое происходит?
– Тебе нужно поехать со мной, – повторил он.
– Зачем мне это?
– Сочувствие, – сказал он.
Мой приятель не психотерапевт. Он хирург-ветеринар, специалист по генетическим заболеваниям глаза. Они с женой были нашими соседями несколько лет. Развелись незадолго до того, как съехали. Они выставляли свой развод на всеобщее обозрение с необычайным рвением. Устраивали дома ожесточенные ссоры с распахнутыми настежь окнами, и затем также ожесточенно, не закрывая окон, занимались любовью. Даже самые тактичные и сдержанные соседи открыто осуждали их. Нередко они выкрикивали в адрес друг друга слово «развод». Это слово так часто сотрясало воздух, что как бы стало третьим участником этих сеансов ругани и секса.
– Слушай, – сказал я, – когда вы осознали, что пора разводиться?
– Как только поженились, – ответил он.
8.
Та самая ночь, я рассказываю жене о всех своих друзьях, которые неожиданно разводятся. Рассказываю о наших бывших соседях и о посещении городской тюрьмы. Моя голова лежит у нее на коленях. Я поднимаю на нее глаза, а она спит.
Она очень беременна. Глубоко в нашей беременности. Она спит даже когда бодрствует. Я продолжаю говорить. Я рассказываю о том первом парне, который говорил, что скоро разводится, и что он по-прежнему живет с женой. Я сказал, что первое мое желание, когда я об этом услышал, было рассказать ей. Я говорю, что не знал поначалу, как разговаривать с человеком в его положении. Я говорю, что не осознавал, что в мире так много разводов. «Я не знаю, – говорю я ей, – что делал бы, разведись мы с ней».
Я наблюдаю, как эти фразы порхают и растворяются в тишине гостиной, и снова смотрю на жену. Она прелестна во сне. «Ну, в общем, я пытался позвонить тебе. Ты не ответила. И мы пошли в дом. Он позвал меня на кухню взять пива. Я пошел. Спросил, надо ли разуться. Он засмеялся. Я спросил, стоит ли включить свет. Мы вошли в кухню и остановились друг напротив друга у стола в центре. Свет не включали. Лунный свет с улицы падал на его лицо. Он уставился на меня и просто смотрел, или мне так показалось. «Ты в порядке?» – спросил я.
– Грустно, – сказал он.
Он развернулся, распахнул освещенный яркой луной холодильник, достал бутылку пива и отвернул крышку. Отпил глоток и запустил бутылку в моем направлении по поверхности стола. Я посмотрел на бутылку. Он сказал:
– Ты хочешь свою собственную?
Вернулся к холодильнику. Вытащил другую бутылку, рукой снял крышку, потом остановился и стоял в оцепенении.
– Что? – спросил я.
Он прошептал:
– Слушай.
– Слышу как работает вентилятор, – сказал я.
– Я слышу ее дыхание, – сказал он.
– Хорошо.
– Я слышу, как она дышит, – сказал он.
Потом я тоже кое-что услышал. Я услышал шаги на лестнице. Сначала он были тихие, а затем его дочки, тараторя, ворвались в кухню. Вдруг стало очень шумно. Мы зажгли свет. Это были его девочки, на их лицах сияли улыбки. Они смотрели на меня и разговаривали с ним. Они так радовались, что он дома. Они так радовались тому, что могут позавтракать в темноте. Спросили у него, почему от нас пахнет дымом».
9.
Я сел к нему в машину. Спросил, как он связался с этой психотерапевтической группой, и он рассказал мне, что сам решил этим заняться. Сказал, что просто однажды проезжал мимо тюрьмы, вскоре после развода с женой, и подумал: наверняка там много одиноких парней, которые чувствуют то же, что и я. Он рассказал мне, как подошел к главным воротам, спросил начальника, спросил, может кому-нибудь из заключенных было бы интересно собираться в неформальной обстановке, чтобы поговорить о любви и о вещах, которые происходят в ее отсутствие. Начальник тюрьмы посмеялся, сказал, что сомневается, но что мой приятель может получить одноразовый пропуск, посидеть во дворе во время получасового обеда на свежем воздухе, и посмотреть, подойдет ли к нему кто-нибудь.
– И теперь догадайся, кто каждую неделю посещает мою маленькую группу из сорока пяти человек?
– Начальник тюрьмы?
– Он самый, – сказал мой друг. Он выглядел грустным и задумчивым. Люблю этого жирного придурка.
Мы сидели в его машине, разглядывая наши дома. Он замолчал. Мне нечего было добавить. На самом деле занятно было просто сидеть и смотреть на наши дома. Я сделал глубокий вдох.
– Тебе нравятся новые владельцы? – спросил он.
– Нормальные.
– Они разочаруют тебя, – сказал он. – Так всегда происходит с соседями.
На деле, у нас было мало общего, кроме границы наших участков.
Мы ехали молча, и когда добрались до тюрьмы, я узнал, что местная парковка представляет собой огромную, просто гигантскую, грунтовую пустыню, раскинувшую на много миль вокруг свои неоглядные просторы. Из любой конкретной точки в этой пустыне нужно пройти пешком около четверти мили, прежде чем окажешься у крошечного, окруженного забором с колючей проволокой, входа в тюрьму. Когда тебя пропускают внутрь, ты проходишь по лабиринту коридоров из темных цементных блоков без единого окна, тебя обыскивают и сканируют каждый раз при проходе через стальные решетки ворот, которых было около пяти между входом в тюрьму и открытой поляной, где в течение получаса позволяется обедать избранным заключенным. Мы с приятелем прошли всю дорогу, не сказав ни слова.
На поляне уже собралось много парней, дожидавшихся моего приятеля и бывшего соседа. Они сидели на траве, скрестив ноги. Пока мы шли к ним, они меня внимательно разглядывали. Я сел. Мой приятель вышел вперед и остался стоять. Он поднял руки и, когда все затихли, поблагодарил всех за участие и за желание «увидеть мир за пределами любви». Мужчины закивали. Мой приятель продолжал. Немного поговорил об «истинно большом несчастье, когда видишь любовь там, где ее на самом деле нет», и в качестве примера привел двух слепых псов, которых он полюбил в бытность интерном в ветеринарной клинике в Северной Каролине. Собаки умерли. Как-то утром он обнаружил, что они подохли. «Их больше не было», – сказал он, и его голос задрожал. Он щелкнул пальцами. Прочистил горло. Сказал, что он был опустошен. Сказал, что никогда не чувствовал себя настолько опустошенным. «Никакое опустошение не могло с этим сравниться», – сказал он. Он сказал, что думает, что мы все знаем, о чем идет речь.
Солнце припекало на редкость сильно. Я осмотрелся. Одно было ясно, судя по выражениям лиц мужчин в этой группе: говорить о дохлых псах было плохой идеей. Им это не понравилось. Кто-то встал. Из-за этого всполошились те, кто еще сидел. Мой приятель продолжал говорить, будто реплики, которыми перекидывались эти мужчины, были пустяшны, приглушены. «Дохлые псы, – сказал он, – это просто метафора. Они не умерли». Один мужик встал, толкнул другого в спину и назвал его сукой. Начальник двинулся с места, перекатился на колени и встал. Я попытался подняться, когда трое или четверо прижали меня к земле и набросились на начальника и того парня, которого обозвали сукой. Они пинали его по голове. Я видел как его голова перемещается по жутким траекториям. Страшно смотреть, как трое или четверо пинают человека по голове. Потом раздались выстрелы и двор заполнился оружием и криками. Я лежал лицом вниз, пригвожденный к земле. Я видел, что остальные тоже были пригвождены к земле.
10.
Я взглянул на жену. Она по-прежнему крепко спала. Ребенок должен родиться через несколько недель, и она спит так тяжело, урывками и в таких неестественных перекрученных позах, что я поражаюсь, когда замечаю эту безмятежность, временами проступающую в чертах ее лица. Мы женаты шесть лет. Мы тщательно все спланировали, стратегически выверили, несмотря на неестественный в моем возрасте сердечный приступ и двойное шунтирование, которое я пережил в прошлом году. Мы были готовы, по крайней мере я так думал до нынешнего потока разводов, воспитывать ребенка. Я говорю ей, что мне не по себе от того, что все кругом разводятся. «Это сумасшествие, – говорю я. – Что это вообще такое, эти разводы?»
11.
Со временем мой друг зажег еще несколько светильников и, похоже, расслабился. Он рассказывал девочкам какие-то дурацкие истории, а я пил вторую бутылку пива. Работал телевизор. Дочки рассказывали мне о своем любимом вечернем телешоу. Они говорили, что Джимми Киммел был «сутник», а еще он был немного «сишной». Обеим было не больше шести. Мой приятель посмотрел на меня и пожал плечами.
Тут я заметил, что на кухне материализовалась жена моего приятеля, одетая в голубой халат. В руках у нее была бутылка пива. Она стояла у входа, на границе кухни и гостиной. Она спросила, во сколько мы вернулись домой. Мой друг молчал, я ответил. Сказал, что был рад видеть ее снова.
– Да? – сказала она.
Она спросила меня о жене. Я спросил ее о газоне. Пожаловался на рынок недвижимости. Она сказала, что, как ни странно, любит африканское просо. Мы продолжали в том же духе несколько минут, болтая ни о чем, мой друг играл с дочками у телевизора. Она подошла ко мне и села на ручку кресла. Она казалась совершенно расслабленной. Лишь несколько раз взглянула в сторону мужа.
– Ну, – сказал я.
Я встал, намереваясь уходить. Она посмотрела на меня с удивлением.
– Ах, – сказала она. – Тебе не нужно никуда уходить.
– Нет, – сказал я.
– Выпей еще бутылочку пива, – сказала она.
Она встала и пошла к холодильнику, невзирая на мои замечания, что мне не стоит больше пить, открыла эту бутылочку, рукой открутив крышку, и принесла ее мне. Вернулась к холодильнику, открыла еще одну, и отдала ее мужу. Потом сказала мужу, моему приятелю, сесть на диван. Он послушался. Поднялся с пола и упал на диван. Она уселась к нему на колени.
– Что еще нового? – спросила она меня.
«Я слышал вы разводитесь», – хотел сказать я.
– Почти ничего, – сказал я.
Моя жена спит, пока я ей все это говорю. Я говорю, что, когда я поднял взгляд, я увидел, как они – мой приятель и его жена – целуются на диване и предположил сперва, что это было нечто вроде стремительного примирения. Я посмотрел на девочек, которые тоже смотрели на моего приятеля и его жену.
Они продолжали целоваться. Я снова посмотрел на девочек. По телевизору шла реклама. Я увидел язык жены моего друга, его рука скользнула внутрь ее халата. Оба до сих пор держали пиво. Как только он уронил бутылку на ковер, я встал. Погладил девочек по голове. Они восприняли это как сигнал.
Они вышли со мной из комнаты, как будто собирались проводить меня до двери. Вместо этого они сразу пошли вверх по лестнице в свои спальни.
– Спокойной ночи, – прошептал я им.
И они обернулись.
12.
Мой кардиолог уделял мне особое внимание, когда я лежал в больнице с сердечным приступом и готовился к операции. Он часто заходил в мою палату. Мало разговаривал, но с какой-то серьезной решимостью проверял показания приборов, листал страницы, вбивал что-то в свой компьютер. Вечером накануне операции, когда уже никого не было, он вошел ко мне в палату и закрыл дверь. Сел на край кровати. Сказал:
– Знаешь, что тебе нужно?
– Обняться?
Он посмотрел на часы:
– Я считаю, что большинству сердечников нужен кто-то, кто напугает их до полусмерти.
– Хорошо, – сказал я.
– Если ты не поменяешь образ жизни...
Он посмотрел на меня и достал из кармана халата макет человеческого сердца, впился пальцами в макет и начал рвать его на части. Он раскидал резиновые обрывки по простыням и ушел.
13.
– Давай, – сказала старшая дочь.
Она звала меня. Я пошел за ней. Поднявшись по лестнице, мы повернули направо и вошли в комнату, освещённую огнями свечей. На стенах комнаты были чучела убитых на охоте животных. Я уперся взглядом в голову зебры.
– Господи Иисусе, – сказал я.
Старшая дочь рассказала мне, что зебру зовут Беверли. Лису звали Ленни, фазана – Дженнифер, а дикая индейка вообще никак не звалась, потому что ее убили только этим утром.
14.
Я поднимаю голову с коленей жены и сажусь в кровати. Передвигаю диванные подушки, слегка подпрыгиваю, чтобы разбудить ее. Она просыпается. Улыбается. Потирает лицо. Потягивается и опускает руки на живот, к нашему малышу, шевелящемуся внутри. Она говорит, что чувствует себя адски плохо, я говорю, что понимаю. Она закатывает глаза. «Отнеси меня наверх», – говорит она. Я думаю. Думаю, стоит ли нести ее. Думаю о том, сколько она весит. «Давай же», – говорит она. Я просовываю руку ей под ноги. Поддерживаю спину. Поднимаю. Ее глаза закрываются. Рот округляется. Прохладно. Дорожка из гравия освещена лишь слабым светом луны. Дует ветерок. Взывают сверчки. Я слышу, как волны бьются о берег. Слышу, как моя лодка трется о деревянный пирс. Швартовочные тросы ноют от натяжения. В хижине темно. Я укладываю жену в скрипучую кровать. Распрямляюсь и смотрю на ее силуэт. Было не просто донести ее. И зачем мы забрались так далеко.
Публикуется с разрешения автора и издательства (с) Christopher Merkner (с) Coffee House Press Перевод Антона Платонова специально для Esquire Kazakhstan Иллюстрации Нины Терлецкой
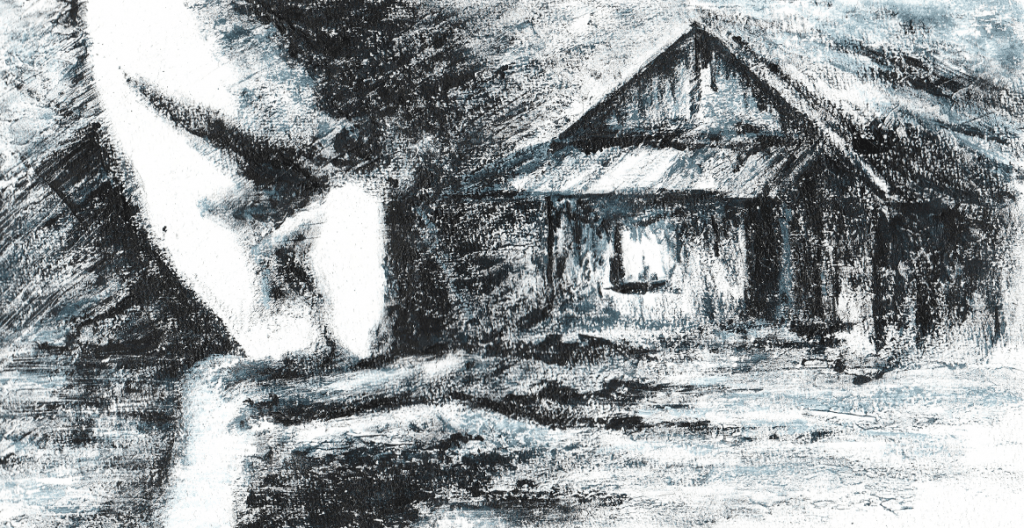 1.
Полагая, что мой приятель по-прежнему счастлив в браке, я сказал ему, что не могу вообразить жизнь поблизости от жены после развода. «Я всегда представлял, – говорил я, что если разведусь, буду жить один где-нибудь в глуши». У меня есть хижина. У меня есть лодка. Я вижу свою маленькую хижину прямо из лодки. Вода шлепает по лодке. Я сижу на высоком стуле, подергивая блесной, которая проносится по поверхности воды, когда я наматываю леску на катушку. Жены рядом нет. Ни в хижине, ни где бы то ни было в моей разведенной жизни ее не увидеть, не услышать и не унюхать.
А я скучаю по ней. Я угрюм и разбит из-за того, что в хижине нет ее. Если мне не быть с ней, не нужно никого и ничего, кроме моей хижины и моей лодки. Мысль о том, что я буду видеться с ней лишь изредка, невозможна. Подобная унизительная нелепость встречается только в дешевых сериалах. Я много хожу и много пью. Иногда, напившись, иду вдоль трассы в бар только для того, чтобы продолжить там напиваться. Иногда в баре со мной флиртуют местные барышни, но я прожил в тех краях достаточно долго, и так часто, с такой горечью отвергал их заигрывания, что теперь они почти всегда просто стоят в глубине бара и называют меня по имени, которое для меня придумали – Глаза Лани, а мне все эти годы слышится – Глаза Вани, и они жалеют меня, как жалеют сбитых на трассе животных. Пьяный, я ковыляю обратно к хижине, сплю, рыбачу. У меня нет ни малейшего представления, откуда у меня берутся деньги.
– Извини, – сказал я приятелю. – Я просто выдумываю всю эту хрень.
2.
Незадолго до этого, другой приятель позвонил мне и пригласил в ту часть города, куда я раньше и не думал соваться. Той ночью, двигаясь по правой полосе, я увидел через окно с пассажирской стороны табличку с адресом, который он мне дал. Это была кальянная. Я припарковался и вошел в зал. Он сидел в кабинке в одиночестве. Я скользнул по скамейке и уселся напротив.
– У меня новости, – сказал он.
– Ты умираешь, – сказал я.
– Немного, – сказал он.
– Хорошее заведение, – сказал я.
Он окинул взглядом помещение. Сказал:
– О, да, дружище!
Потом сказал, что походы по таким местам – часть его новой жизненной философии. Закусил черный резиновый мундштук. Затянулся, я ждал, он закашлялся. Протянул мундштук мне. Я принял его и просто держал. Осматривался, пока он прочищал легкие. Я не видел такого скопления молодежи в одном месте со студенческих пор. Я чувствовал себя старым и нелепым, с мундштуком в руке. Отдал его приятелю. Он сказал, что разводится. Потом снова вложил мундштук в рот и закрыл глаза.
Я боролся с позывом позвонить жене. Держал руку на телефоне. Вместо этого встал и заказал праздничный кусок пирога. Мы с женой часто обсуждали этих двоих. Мы очень хотели от них отделаться. Нас тошнило от того, как они, вроде бы, любили друг друга. Он всегда указывал ей; она всегда посылала его на х*й. Потом они смеялись. Мы думали, что они вот так вот и будут всегда жить вместе.
Я вернулся за стол и смотрел, как из пирога сочится струйка жира. Приятель в подробностях рассказал об измене жены, он сравнивал это с булавкой, которая проткнула их воздушный шарик. Судя по всему, жена знала того мужика не один десяток лет. Они дружили в старших классах. Много лет не общались, и вдруг, по причинам ведомым только Господу Богу, их «души нашли друг друга» в районном автосалоне субботним вечером. После нескольких десятилетий жизни в браке с другими людьми, сказал мне приятель, его жена и этот парень просто случайно встретились.
– Не их «родственные души», – уточнил он. Просто их «души».
– Эх, – сказал я.
– В любом случае, – добавил он, отвернувшись от мундштука через мгновение после того, как поднес его ко рту, – всем бы такого везения. – Он затянулся, выдохнул и закашлялся.
Я сказал: «Хорошо».
Он стал объяснять, что его жена и ее новый мужик много думали друг о друге последние лет десять. Все это время они не знали, что живут в одном городе. «Похоже, – сказал мой приятель, сохраняя непроницаемое лицо, – этот парень каждый год готовил праздничный торт для моей жены и отмечал ее день рождения. Потом выкидывал торт в мусорную яму в саду и сжигал».
– А что будет с дочками? – cпросил я.
– Мои родители разведены, – ответил он.
Я кивнул.
– Значит ты им уже все рассказал?
– Они знают.
Я снова кивнул. Он в очередной раз глубоко затянулся через мундштук и поднял на меня глаза.
– Родитель-одиночка, – выговорил он, не выдыхая дым. – Это нынче в почете.
– Ты мне сейчас слегка выносишь мозг, – сказал я.
Он выдохнул. Сказал: «Да». Не закашлялся. Начал изучать кальян, как будто только что осознал, что этот артефакт все время стоял между нами.
– Ну вот, – сказал он, – в общем, я просто хочу себя убить.
3.
Я отвел его к своей машине. Старался выглядеть расслабленным. Бросил в адрес автомобиля пару ругательств. Он рассмеялся. Казалось, он был в порядке. Однако, когда мы въехали в его район, начал стучаться головой о боковое стекло. Я наблюдал за ним краем глаза. Заговорил о сердечном приступе, который случился со мной прошлой осенью. Он сказал, что слышал об этом. Сказал, что сочувствует. Ему явно было все равно, но мне казалось, что было правильно поговорить о себе. Я полагал, что тем самым помещаю наши с ним злоключения в более широкий контекст. Я в подробностях поведал ему все, что мог вспомнить о катетере. Остановив машину напротив его дома, я протянул ему руку:
– Спасибо, – сказал я.
Он не двинулся с места. Не взял моей руки. Просто уставился в пространство перед собой.
– Вы все еще живете вместе? – спросил я.
Он кивнул.
– Это больно, – сказал я.
– Надо думать, – сказал он. Пригласил меня войти. Сказал, что в холодильнике есть пиво.
Я сказал, что сначала должен позвонить жене.
Он клацнул зубами. «Ах», – сказал он и погрозил пальцем перед моим лицом.
– Знаю, – сказал я, – знаю. Я выдавил из себя смешок. Посмотрел на телефон.
Он не шевелился.
– Я поднимусь через минуту, – сказал я. – Не запирай дверь.
– Я не хочу больше оставаться с ней наедине в этом доме.
Я набрал жене. Она не сняла трубку. Включился автоответчик. Я оставил туманное сообщение о том, что «уже еду» и воздержался от слов любви, которые обязательно произнес бы, не сиди сейчас рядом со мной разведенный приятель.
Мы поднялись к дому и вошли. Было темно.
– Ничего не вижу, – сказал я.
– Она где-то здесь, дома, – сказал он.
4.
Лежа в кровати тем же вечером, когда я рассуждал о своей хижине на случай развода, я перекатился и посмотрел на жену. Она читала книгу о вязании крючком и шитье. Я сказал: «Если мы вдруг разведемся, с кем останется ребенок?»
5.
На следующее утро я играл в баскетбол с третьим приятелем, которого считал женатым. Я рассказал ему о недавно выявившихся разводах среди знакомых. Сказал, что не понимаю тех, кто разводится. «Кажется, – сказал я, – для этого требуется провести невероятно большую работу». Я сделал бросок из-под кольца. Приятель какое-то время молчал, а потом заявил, что всегда считал женатиков идиотами, психика которых покорежена открыточными стереотипами. Я бросил ему мяч и сказал, что открытки Майи Анжелу вполне себе ничего.
– Это потому, что ты гей, – сказал он.
Я спустил это на тормозах. Он не учился в школе, этот мой приятель. Я всегда считал его грубоватым, но порядочным человеком – простой парень, чьи ценности и приоритеты мне были близки. Но на самом деле я не знал этого наверняка. Я сказал: «Разве это не ко всем относится?»
Он левой забросил двухочковый и взглянул на меня. Покрутил головой:
– Не-а, – сказал он.
– Готов поспорить, твоя жена рада вашему браку, – сказал я.
– Тогда бы она все не прое*ывала, – сказал он.
Потом добавил:
– Мы разбежались в прошлом году.
– Да ну, – сказал я.
Он вел мяч, пропуская его между ног.
– Я был в этом браке, как глухонемая Хелен Келлер, которую одурманили наркотой. Я рас *ерачил все, что было в доме. Этот брак влетел нам в копеечку. Я только стен наломал тысяч на десять долларов.
Он ворвался в трехсекундную зону. Я этому не препятствовал. Он положил мяч в кольцо.
Я познакомился с этим парнем здесь, на спортивной площадке, примерно тогда, когда слег от сердечного приступа. В первый раз, когда мы вдвоем бросали мяч, он притащил пива и склонил меня к тому, чтобы прикончить с ним весь ящик. И мы могли бы в этом преуспеть, если бы он не сломал ногу, пытаясь поймать отскочивший мяч, пока тот не угодил под небольшую алюминиевую трибуну у эвакуационного выхода. Пришлось отвезти его в больницу. Мы оба были пьяны. Какое-то время я сидел там вместе с его женой, женщиной холодной и невозмутимой. Потом я задремал. Когда проснулся, ее уже не было. Я просто сидел один в вестибюле больницы. Я подумал, что она отлучилась за кофе. Я просидел там два часа. Пошел в сестринскую разузнать, как обстоят дела. Приятеля уже выписали…
Я бросил по кольцу с пары метров. Мяч ударился о кромку, отскочил обратно прямо мне в руки. Я снова бросил:
– Чем теперь занимаешься? Встречаешься с кем-нибудь?
Он сказал, что трахает мою мать. Подхватил мяч с травы и убежал в другой конец площадки. Прибежал назад. Встал прямо напротив меня. Потребовал убрать с лица это выражение. Сказал, его от этого тошнит. «Брак? – сказал он, – меня от этого тошнит». Потом он ушел, забрав мяч с собой.
6.
Это прекрасная хижина. Я много думаю о ней. Часто там бываю. Когда я в ней живу, питаюсь ягодами и окунем. Зимой, однако, температура в среднем минус десять. Ем я очень мало, но много пью. В процессе заливания за воротник я занимаюсь утеплением стен хижины. Иногда я засыпаю с инструментом, зажатым в кожаной варежке. Я не вижу снов. Часто просыпаюсь и выпиваю еще, затем выхожу из хижины и направляюсь в городской бар. Я ни с кем там не разговариваю. Иногда заговаривают со мной, советуют мне принять душ. А еще показать щеки и нос доктору, так как, похоже, оголенная плоть начинает чернеть от обморожения. «Ты уже утеплил эту берлогу?» – спрашивают они.
И тогда я обычно возвращаюсь в хижину, где женщина из Скандинавии белой тряпкой протирает кухонную столешницу. В комнате горят свечи. Она развела огонь в камине, а я не помню, чтобы встраивал его в дощатую стену. Она украсила хижину милыми красными и синими тканями и гобеленами с цветочными узорами. На ней передник. На голове повязан шарф, из-под которого струятся длинные светлые волосы. Она приносит мне чашку горячего шоколада. Она говорит, что она та самая Суисс Мисс с упаковки какао, только повзрослела и спустилась с гор, чтобы стать моей женой и родить мне здоровых деток. Она в меня влюблена, она знает, что это неожиданно. Она говорит: «Ах, Глаза Лани». И целует меня в глаза, и, хотя доски хижины вспыхнули и горят вокруг нас, я молчу, потому что внутри я очень холоден, очень холоден.
1.
Полагая, что мой приятель по-прежнему счастлив в браке, я сказал ему, что не могу вообразить жизнь поблизости от жены после развода. «Я всегда представлял, – говорил я, что если разведусь, буду жить один где-нибудь в глуши». У меня есть хижина. У меня есть лодка. Я вижу свою маленькую хижину прямо из лодки. Вода шлепает по лодке. Я сижу на высоком стуле, подергивая блесной, которая проносится по поверхности воды, когда я наматываю леску на катушку. Жены рядом нет. Ни в хижине, ни где бы то ни было в моей разведенной жизни ее не увидеть, не услышать и не унюхать.
А я скучаю по ней. Я угрюм и разбит из-за того, что в хижине нет ее. Если мне не быть с ней, не нужно никого и ничего, кроме моей хижины и моей лодки. Мысль о том, что я буду видеться с ней лишь изредка, невозможна. Подобная унизительная нелепость встречается только в дешевых сериалах. Я много хожу и много пью. Иногда, напившись, иду вдоль трассы в бар только для того, чтобы продолжить там напиваться. Иногда в баре со мной флиртуют местные барышни, но я прожил в тех краях достаточно долго, и так часто, с такой горечью отвергал их заигрывания, что теперь они почти всегда просто стоят в глубине бара и называют меня по имени, которое для меня придумали – Глаза Лани, а мне все эти годы слышится – Глаза Вани, и они жалеют меня, как жалеют сбитых на трассе животных. Пьяный, я ковыляю обратно к хижине, сплю, рыбачу. У меня нет ни малейшего представления, откуда у меня берутся деньги.
– Извини, – сказал я приятелю. – Я просто выдумываю всю эту хрень.
2.
Незадолго до этого, другой приятель позвонил мне и пригласил в ту часть города, куда я раньше и не думал соваться. Той ночью, двигаясь по правой полосе, я увидел через окно с пассажирской стороны табличку с адресом, который он мне дал. Это была кальянная. Я припарковался и вошел в зал. Он сидел в кабинке в одиночестве. Я скользнул по скамейке и уселся напротив.
– У меня новости, – сказал он.
– Ты умираешь, – сказал я.
– Немного, – сказал он.
– Хорошее заведение, – сказал я.
Он окинул взглядом помещение. Сказал:
– О, да, дружище!
Потом сказал, что походы по таким местам – часть его новой жизненной философии. Закусил черный резиновый мундштук. Затянулся, я ждал, он закашлялся. Протянул мундштук мне. Я принял его и просто держал. Осматривался, пока он прочищал легкие. Я не видел такого скопления молодежи в одном месте со студенческих пор. Я чувствовал себя старым и нелепым, с мундштуком в руке. Отдал его приятелю. Он сказал, что разводится. Потом снова вложил мундштук в рот и закрыл глаза.
Я боролся с позывом позвонить жене. Держал руку на телефоне. Вместо этого встал и заказал праздничный кусок пирога. Мы с женой часто обсуждали этих двоих. Мы очень хотели от них отделаться. Нас тошнило от того, как они, вроде бы, любили друг друга. Он всегда указывал ей; она всегда посылала его на х*й. Потом они смеялись. Мы думали, что они вот так вот и будут всегда жить вместе.
Я вернулся за стол и смотрел, как из пирога сочится струйка жира. Приятель в подробностях рассказал об измене жены, он сравнивал это с булавкой, которая проткнула их воздушный шарик. Судя по всему, жена знала того мужика не один десяток лет. Они дружили в старших классах. Много лет не общались, и вдруг, по причинам ведомым только Господу Богу, их «души нашли друг друга» в районном автосалоне субботним вечером. После нескольких десятилетий жизни в браке с другими людьми, сказал мне приятель, его жена и этот парень просто случайно встретились.
– Не их «родственные души», – уточнил он. Просто их «души».
– Эх, – сказал я.
– В любом случае, – добавил он, отвернувшись от мундштука через мгновение после того, как поднес его ко рту, – всем бы такого везения. – Он затянулся, выдохнул и закашлялся.
Я сказал: «Хорошо».
Он стал объяснять, что его жена и ее новый мужик много думали друг о друге последние лет десять. Все это время они не знали, что живут в одном городе. «Похоже, – сказал мой приятель, сохраняя непроницаемое лицо, – этот парень каждый год готовил праздничный торт для моей жены и отмечал ее день рождения. Потом выкидывал торт в мусорную яму в саду и сжигал».
– А что будет с дочками? – cпросил я.
– Мои родители разведены, – ответил он.
Я кивнул.
– Значит ты им уже все рассказал?
– Они знают.
Я снова кивнул. Он в очередной раз глубоко затянулся через мундштук и поднял на меня глаза.
– Родитель-одиночка, – выговорил он, не выдыхая дым. – Это нынче в почете.
– Ты мне сейчас слегка выносишь мозг, – сказал я.
Он выдохнул. Сказал: «Да». Не закашлялся. Начал изучать кальян, как будто только что осознал, что этот артефакт все время стоял между нами.
– Ну вот, – сказал он, – в общем, я просто хочу себя убить.
3.
Я отвел его к своей машине. Старался выглядеть расслабленным. Бросил в адрес автомобиля пару ругательств. Он рассмеялся. Казалось, он был в порядке. Однако, когда мы въехали в его район, начал стучаться головой о боковое стекло. Я наблюдал за ним краем глаза. Заговорил о сердечном приступе, который случился со мной прошлой осенью. Он сказал, что слышал об этом. Сказал, что сочувствует. Ему явно было все равно, но мне казалось, что было правильно поговорить о себе. Я полагал, что тем самым помещаю наши с ним злоключения в более широкий контекст. Я в подробностях поведал ему все, что мог вспомнить о катетере. Остановив машину напротив его дома, я протянул ему руку:
– Спасибо, – сказал я.
Он не двинулся с места. Не взял моей руки. Просто уставился в пространство перед собой.
– Вы все еще живете вместе? – спросил я.
Он кивнул.
– Это больно, – сказал я.
– Надо думать, – сказал он. Пригласил меня войти. Сказал, что в холодильнике есть пиво.
Я сказал, что сначала должен позвонить жене.
Он клацнул зубами. «Ах», – сказал он и погрозил пальцем перед моим лицом.
– Знаю, – сказал я, – знаю. Я выдавил из себя смешок. Посмотрел на телефон.
Он не шевелился.
– Я поднимусь через минуту, – сказал я. – Не запирай дверь.
– Я не хочу больше оставаться с ней наедине в этом доме.
Я набрал жене. Она не сняла трубку. Включился автоответчик. Я оставил туманное сообщение о том, что «уже еду» и воздержался от слов любви, которые обязательно произнес бы, не сиди сейчас рядом со мной разведенный приятель.
Мы поднялись к дому и вошли. Было темно.
– Ничего не вижу, – сказал я.
– Она где-то здесь, дома, – сказал он.
4.
Лежа в кровати тем же вечером, когда я рассуждал о своей хижине на случай развода, я перекатился и посмотрел на жену. Она читала книгу о вязании крючком и шитье. Я сказал: «Если мы вдруг разведемся, с кем останется ребенок?»
5.
На следующее утро я играл в баскетбол с третьим приятелем, которого считал женатым. Я рассказал ему о недавно выявившихся разводах среди знакомых. Сказал, что не понимаю тех, кто разводится. «Кажется, – сказал я, – для этого требуется провести невероятно большую работу». Я сделал бросок из-под кольца. Приятель какое-то время молчал, а потом заявил, что всегда считал женатиков идиотами, психика которых покорежена открыточными стереотипами. Я бросил ему мяч и сказал, что открытки Майи Анжелу вполне себе ничего.
– Это потому, что ты гей, – сказал он.
Я спустил это на тормозах. Он не учился в школе, этот мой приятель. Я всегда считал его грубоватым, но порядочным человеком – простой парень, чьи ценности и приоритеты мне были близки. Но на самом деле я не знал этого наверняка. Я сказал: «Разве это не ко всем относится?»
Он левой забросил двухочковый и взглянул на меня. Покрутил головой:
– Не-а, – сказал он.
– Готов поспорить, твоя жена рада вашему браку, – сказал я.
– Тогда бы она все не прое*ывала, – сказал он.
Потом добавил:
– Мы разбежались в прошлом году.
– Да ну, – сказал я.
Он вел мяч, пропуская его между ног.
– Я был в этом браке, как глухонемая Хелен Келлер, которую одурманили наркотой. Я рас *ерачил все, что было в доме. Этот брак влетел нам в копеечку. Я только стен наломал тысяч на десять долларов.
Он ворвался в трехсекундную зону. Я этому не препятствовал. Он положил мяч в кольцо.
Я познакомился с этим парнем здесь, на спортивной площадке, примерно тогда, когда слег от сердечного приступа. В первый раз, когда мы вдвоем бросали мяч, он притащил пива и склонил меня к тому, чтобы прикончить с ним весь ящик. И мы могли бы в этом преуспеть, если бы он не сломал ногу, пытаясь поймать отскочивший мяч, пока тот не угодил под небольшую алюминиевую трибуну у эвакуационного выхода. Пришлось отвезти его в больницу. Мы оба были пьяны. Какое-то время я сидел там вместе с его женой, женщиной холодной и невозмутимой. Потом я задремал. Когда проснулся, ее уже не было. Я просто сидел один в вестибюле больницы. Я подумал, что она отлучилась за кофе. Я просидел там два часа. Пошел в сестринскую разузнать, как обстоят дела. Приятеля уже выписали…
Я бросил по кольцу с пары метров. Мяч ударился о кромку, отскочил обратно прямо мне в руки. Я снова бросил:
– Чем теперь занимаешься? Встречаешься с кем-нибудь?
Он сказал, что трахает мою мать. Подхватил мяч с травы и убежал в другой конец площадки. Прибежал назад. Встал прямо напротив меня. Потребовал убрать с лица это выражение. Сказал, его от этого тошнит. «Брак? – сказал он, – меня от этого тошнит». Потом он ушел, забрав мяч с собой.
6.
Это прекрасная хижина. Я много думаю о ней. Часто там бываю. Когда я в ней живу, питаюсь ягодами и окунем. Зимой, однако, температура в среднем минус десять. Ем я очень мало, но много пью. В процессе заливания за воротник я занимаюсь утеплением стен хижины. Иногда я засыпаю с инструментом, зажатым в кожаной варежке. Я не вижу снов. Часто просыпаюсь и выпиваю еще, затем выхожу из хижины и направляюсь в городской бар. Я ни с кем там не разговариваю. Иногда заговаривают со мной, советуют мне принять душ. А еще показать щеки и нос доктору, так как, похоже, оголенная плоть начинает чернеть от обморожения. «Ты уже утеплил эту берлогу?» – спрашивают они.
И тогда я обычно возвращаюсь в хижину, где женщина из Скандинавии белой тряпкой протирает кухонную столешницу. В комнате горят свечи. Она развела огонь в камине, а я не помню, чтобы встраивал его в дощатую стену. Она украсила хижину милыми красными и синими тканями и гобеленами с цветочными узорами. На ней передник. На голове повязан шарф, из-под которого струятся длинные светлые волосы. Она приносит мне чашку горячего шоколада. Она говорит, что она та самая Суисс Мисс с упаковки какао, только повзрослела и спустилась с гор, чтобы стать моей женой и родить мне здоровых деток. Она в меня влюблена, она знает, что это неожиданно. Она говорит: «Ах, Глаза Лани». И целует меня в глаза, и, хотя доски хижины вспыхнули и горят вокруг нас, я молчу, потому что внутри я очень холоден, очень холоден.
 7.
Четвертым счастливо женатым приятелем, оказавшимся на деле разведенным, был мой бывший сосед. Он проезжал мимо своего прежнего дома, как это часто бывало, увидел меня за прополкой сорняков в переднем дворе и остановился. Опустил окно. Сказал, что держит путь в городскую тюрьму. Что основал психотерапевтическую группу для заключенных, которые проходили через развод, уже развелись или боялись скорого расставания с партнерами или супругами.
– Тебе нужно поехать со мной, – сказал он.
Я подошел к его машине. Засмеялся:
– Ты четвертый человек за последние несколько дней, который заговаривает со мной о разводе. Что же такое происходит?
– Тебе нужно поехать со мной, – повторил он.
– Зачем мне это?
– Сочувствие, – сказал он.
Мой приятель не психотерапевт. Он хирург-ветеринар, специалист по генетическим заболеваниям глаза. Они с женой были нашими соседями несколько лет. Развелись незадолго до того, как съехали. Они выставляли свой развод на всеобщее обозрение с необычайным рвением. Устраивали дома ожесточенные ссоры с распахнутыми настежь окнами, и затем также ожесточенно, не закрывая окон, занимались любовью. Даже самые тактичные и сдержанные соседи открыто осуждали их. Нередко они выкрикивали в адрес друг друга слово «развод». Это слово так часто сотрясало воздух, что как бы стало третьим участником этих сеансов ругани и секса.
– Слушай, – сказал я, – когда вы осознали, что пора разводиться?
– Как только поженились, – ответил он.
8.
Та самая ночь, я рассказываю жене о всех своих друзьях, которые неожиданно разводятся. Рассказываю о наших бывших соседях и о посещении городской тюрьмы. Моя голова лежит у нее на коленях. Я поднимаю на нее глаза, а она спит.
Она очень беременна. Глубоко в нашей беременности. Она спит даже когда бодрствует. Я продолжаю говорить. Я рассказываю о том первом парне, который говорил, что скоро разводится, и что он по-прежнему живет с женой. Я сказал, что первое мое желание, когда я об этом услышал, было рассказать ей. Я говорю, что не знал поначалу, как разговаривать с человеком в его положении. Я говорю, что не осознавал, что в мире так много разводов. «Я не знаю, – говорю я ей, – что делал бы, разведись мы с ней».
Я наблюдаю, как эти фразы порхают и растворяются в тишине гостиной, и снова смотрю на жену. Она прелестна во сне. «Ну, в общем, я пытался позвонить тебе. Ты не ответила. И мы пошли в дом. Он позвал меня на кухню взять пива. Я пошел. Спросил, надо ли разуться. Он засмеялся. Я спросил, стоит ли включить свет. Мы вошли в кухню и остановились друг напротив друга у стола в центре. Свет не включали. Лунный свет с улицы падал на его лицо. Он уставился на меня и просто смотрел, или мне так показалось. «Ты в порядке?» – спросил я.
– Грустно, – сказал он.
Он развернулся, распахнул освещенный яркой луной холодильник, достал бутылку пива и отвернул крышку. Отпил глоток и запустил бутылку в моем направлении по поверхности стола. Я посмотрел на бутылку. Он сказал:
– Ты хочешь свою собственную?
Вернулся к холодильнику. Вытащил другую бутылку, рукой снял крышку, потом остановился и стоял в оцепенении.
– Что? – спросил я.
Он прошептал:
– Слушай.
– Слышу как работает вентилятор, – сказал я.
– Я слышу ее дыхание, – сказал он.
– Хорошо.
– Я слышу, как она дышит, – сказал он.
Потом я тоже кое-что услышал. Я услышал шаги на лестнице. Сначала он были тихие, а затем его дочки, тараторя, ворвались в кухню. Вдруг стало очень шумно. Мы зажгли свет. Это были его девочки, на их лицах сияли улыбки. Они смотрели на меня и разговаривали с ним. Они так радовались, что он дома. Они так радовались тому, что могут позавтракать в темноте. Спросили у него, почему от нас пахнет дымом».
9.
Я сел к нему в машину. Спросил, как он связался с этой психотерапевтической группой, и он рассказал мне, что сам решил этим заняться. Сказал, что просто однажды проезжал мимо тюрьмы, вскоре после развода с женой, и подумал: наверняка там много одиноких парней, которые чувствуют то же, что и я. Он рассказал мне, как подошел к главным воротам, спросил начальника, спросил, может кому-нибудь из заключенных было бы интересно собираться в неформальной обстановке, чтобы поговорить о любви и о вещах, которые происходят в ее отсутствие. Начальник тюрьмы посмеялся, сказал, что сомневается, но что мой приятель может получить одноразовый пропуск, посидеть во дворе во время получасового обеда на свежем воздухе, и посмотреть, подойдет ли к нему кто-нибудь.
– И теперь догадайся, кто каждую неделю посещает мою маленькую группу из сорока пяти человек?
– Начальник тюрьмы?
– Он самый, – сказал мой друг. Он выглядел грустным и задумчивым. Люблю этого жирного придурка.
Мы сидели в его машине, разглядывая наши дома. Он замолчал. Мне нечего было добавить. На самом деле занятно было просто сидеть и смотреть на наши дома. Я сделал глубокий вдох.
– Тебе нравятся новые владельцы? – спросил он.
– Нормальные.
– Они разочаруют тебя, – сказал он. – Так всегда происходит с соседями.
На деле, у нас было мало общего, кроме границы наших участков.
Мы ехали молча, и когда добрались до тюрьмы, я узнал, что местная парковка представляет собой огромную, просто гигантскую, грунтовую пустыню, раскинувшую на много миль вокруг свои неоглядные просторы. Из любой конкретной точки в этой пустыне нужно пройти пешком около четверти мили, прежде чем окажешься у крошечного, окруженного забором с колючей проволокой, входа в тюрьму. Когда тебя пропускают внутрь, ты проходишь по лабиринту коридоров из темных цементных блоков без единого окна, тебя обыскивают и сканируют каждый раз при проходе через стальные решетки ворот, которых было около пяти между входом в тюрьму и открытой поляной, где в течение получаса позволяется обедать избранным заключенным. Мы с приятелем прошли всю дорогу, не сказав ни слова.
На поляне уже собралось много парней, дожидавшихся моего приятеля и бывшего соседа. Они сидели на траве, скрестив ноги. Пока мы шли к ним, они меня внимательно разглядывали. Я сел. Мой приятель вышел вперед и остался стоять. Он поднял руки и, когда все затихли, поблагодарил всех за участие и за желание «увидеть мир за пределами любви». Мужчины закивали. Мой приятель продолжал. Немного поговорил об «истинно большом несчастье, когда видишь любовь там, где ее на самом деле нет», и в качестве примера привел двух слепых псов, которых он полюбил в бытность интерном в ветеринарной клинике в Северной Каролине. Собаки умерли. Как-то утром он обнаружил, что они подохли. «Их больше не было», – сказал он, и его голос задрожал. Он щелкнул пальцами. Прочистил горло. Сказал, что он был опустошен. Сказал, что никогда не чувствовал себя настолько опустошенным. «Никакое опустошение не могло с этим сравниться», – сказал он. Он сказал, что думает, что мы все знаем, о чем идет речь.
Солнце припекало на редкость сильно. Я осмотрелся. Одно было ясно, судя по выражениям лиц мужчин в этой группе: говорить о дохлых псах было плохой идеей. Им это не понравилось. Кто-то встал. Из-за этого всполошились те, кто еще сидел. Мой приятель продолжал говорить, будто реплики, которыми перекидывались эти мужчины, были пустяшны, приглушены. «Дохлые псы, – сказал он, – это просто метафора. Они не умерли». Один мужик встал, толкнул другого в спину и назвал его сукой. Начальник двинулся с места, перекатился на колени и встал. Я попытался подняться, когда трое или четверо прижали меня к земле и набросились на начальника и того парня, которого обозвали сукой. Они пинали его по голове. Я видел как его голова перемещается по жутким траекториям. Страшно смотреть, как трое или четверо пинают человека по голове. Потом раздались выстрелы и двор заполнился оружием и криками. Я лежал лицом вниз, пригвожденный к земле. Я видел, что остальные тоже были пригвождены к земле.
10.
Я взглянул на жену. Она по-прежнему крепко спала. Ребенок должен родиться через несколько недель, и она спит так тяжело, урывками и в таких неестественных перекрученных позах, что я поражаюсь, когда замечаю эту безмятежность, временами проступающую в чертах ее лица. Мы женаты шесть лет. Мы тщательно все спланировали, стратегически выверили, несмотря на неестественный в моем возрасте сердечный приступ и двойное шунтирование, которое я пережил в прошлом году. Мы были готовы, по крайней мере я так думал до нынешнего потока разводов, воспитывать ребенка. Я говорю ей, что мне не по себе от того, что все кругом разводятся. «Это сумасшествие, – говорю я. – Что это вообще такое, эти разводы?»
11.
Со временем мой друг зажег еще несколько светильников и, похоже, расслабился. Он рассказывал девочкам какие-то дурацкие истории, а я пил вторую бутылку пива. Работал телевизор. Дочки рассказывали мне о своем любимом вечернем телешоу. Они говорили, что Джимми Киммел был «сутник», а еще он был немного «сишной». Обеим было не больше шести. Мой приятель посмотрел на меня и пожал плечами.
Тут я заметил, что на кухне материализовалась жена моего приятеля, одетая в голубой халат. В руках у нее была бутылка пива. Она стояла у входа, на границе кухни и гостиной. Она спросила, во сколько мы вернулись домой. Мой друг молчал, я ответил. Сказал, что был рад видеть ее снова.
– Да? – сказала она.
Она спросила меня о жене. Я спросил ее о газоне. Пожаловался на рынок недвижимости. Она сказала, что, как ни странно, любит африканское просо. Мы продолжали в том же духе несколько минут, болтая ни о чем, мой друг играл с дочками у телевизора. Она подошла ко мне и села на ручку кресла. Она казалась совершенно расслабленной. Лишь несколько раз взглянула в сторону мужа.
– Ну, – сказал я.
Я встал, намереваясь уходить. Она посмотрела на меня с удивлением.
– Ах, – сказала она. – Тебе не нужно никуда уходить.
– Нет, – сказал я.
– Выпей еще бутылочку пива, – сказала она.
Она встала и пошла к холодильнику, невзирая на мои замечания, что мне не стоит больше пить, открыла эту бутылочку, рукой открутив крышку, и принесла ее мне. Вернулась к холодильнику, открыла еще одну, и отдала ее мужу. Потом сказала мужу, моему приятелю, сесть на диван. Он послушался. Поднялся с пола и упал на диван. Она уселась к нему на колени.
– Что еще нового? – спросила она меня.
«Я слышал вы разводитесь», – хотел сказать я.
– Почти ничего, – сказал я.
Моя жена спит, пока я ей все это говорю. Я говорю, что, когда я поднял взгляд, я увидел, как они – мой приятель и его жена – целуются на диване и предположил сперва, что это было нечто вроде стремительного примирения. Я посмотрел на девочек, которые тоже смотрели на моего приятеля и его жену.
Они продолжали целоваться. Я снова посмотрел на девочек. По телевизору шла реклама. Я увидел язык жены моего друга, его рука скользнула внутрь ее халата. Оба до сих пор держали пиво. Как только он уронил бутылку на ковер, я встал. Погладил девочек по голове. Они восприняли это как сигнал.
Они вышли со мной из комнаты, как будто собирались проводить меня до двери. Вместо этого они сразу пошли вверх по лестнице в свои спальни.
– Спокойной ночи, – прошептал я им.
И они обернулись.
12.
Мой кардиолог уделял мне особое внимание, когда я лежал в больнице с сердечным приступом и готовился к операции. Он часто заходил в мою палату. Мало разговаривал, но с какой-то серьезной решимостью проверял показания приборов, листал страницы, вбивал что-то в свой компьютер. Вечером накануне операции, когда уже никого не было, он вошел ко мне в палату и закрыл дверь. Сел на край кровати. Сказал:
– Знаешь, что тебе нужно?
– Обняться?
Он посмотрел на часы:
– Я считаю, что большинству сердечников нужен кто-то, кто напугает их до полусмерти.
– Хорошо, – сказал я.
– Если ты не поменяешь образ жизни...
Он посмотрел на меня и достал из кармана халата макет человеческого сердца, впился пальцами в макет и начал рвать его на части. Он раскидал резиновые обрывки по простыням и ушел.
13.
– Давай, – сказала старшая дочь.
Она звала меня. Я пошел за ней. Поднявшись по лестнице, мы повернули направо и вошли в комнату, освещённую огнями свечей. На стенах комнаты были чучела убитых на охоте животных. Я уперся взглядом в голову зебры.
– Господи Иисусе, – сказал я.
Старшая дочь рассказала мне, что зебру зовут Беверли. Лису звали Ленни, фазана – Дженнифер, а дикая индейка вообще никак не звалась, потому что ее убили только этим утром.
14.
Я поднимаю голову с коленей жены и сажусь в кровати. Передвигаю диванные подушки, слегка подпрыгиваю, чтобы разбудить ее. Она просыпается. Улыбается. Потирает лицо. Потягивается и опускает руки на живот, к нашему малышу, шевелящемуся внутри. Она говорит, что чувствует себя адски плохо, я говорю, что понимаю. Она закатывает глаза. «Отнеси меня наверх», – говорит она. Я думаю. Думаю, стоит ли нести ее. Думаю о том, сколько она весит. «Давай же», – говорит она. Я просовываю руку ей под ноги. Поддерживаю спину. Поднимаю. Ее глаза закрываются. Рот округляется. Прохладно. Дорожка из гравия освещена лишь слабым светом луны. Дует ветерок. Взывают сверчки. Я слышу, как волны бьются о берег. Слышу, как моя лодка трется о деревянный пирс. Швартовочные тросы ноют от натяжения. В хижине темно. Я укладываю жену в скрипучую кровать. Распрямляюсь и смотрю на ее силуэт. Было не просто донести ее. И зачем мы забрались так далеко.
7.
Четвертым счастливо женатым приятелем, оказавшимся на деле разведенным, был мой бывший сосед. Он проезжал мимо своего прежнего дома, как это часто бывало, увидел меня за прополкой сорняков в переднем дворе и остановился. Опустил окно. Сказал, что держит путь в городскую тюрьму. Что основал психотерапевтическую группу для заключенных, которые проходили через развод, уже развелись или боялись скорого расставания с партнерами или супругами.
– Тебе нужно поехать со мной, – сказал он.
Я подошел к его машине. Засмеялся:
– Ты четвертый человек за последние несколько дней, который заговаривает со мной о разводе. Что же такое происходит?
– Тебе нужно поехать со мной, – повторил он.
– Зачем мне это?
– Сочувствие, – сказал он.
Мой приятель не психотерапевт. Он хирург-ветеринар, специалист по генетическим заболеваниям глаза. Они с женой были нашими соседями несколько лет. Развелись незадолго до того, как съехали. Они выставляли свой развод на всеобщее обозрение с необычайным рвением. Устраивали дома ожесточенные ссоры с распахнутыми настежь окнами, и затем также ожесточенно, не закрывая окон, занимались любовью. Даже самые тактичные и сдержанные соседи открыто осуждали их. Нередко они выкрикивали в адрес друг друга слово «развод». Это слово так часто сотрясало воздух, что как бы стало третьим участником этих сеансов ругани и секса.
– Слушай, – сказал я, – когда вы осознали, что пора разводиться?
– Как только поженились, – ответил он.
8.
Та самая ночь, я рассказываю жене о всех своих друзьях, которые неожиданно разводятся. Рассказываю о наших бывших соседях и о посещении городской тюрьмы. Моя голова лежит у нее на коленях. Я поднимаю на нее глаза, а она спит.
Она очень беременна. Глубоко в нашей беременности. Она спит даже когда бодрствует. Я продолжаю говорить. Я рассказываю о том первом парне, который говорил, что скоро разводится, и что он по-прежнему живет с женой. Я сказал, что первое мое желание, когда я об этом услышал, было рассказать ей. Я говорю, что не знал поначалу, как разговаривать с человеком в его положении. Я говорю, что не осознавал, что в мире так много разводов. «Я не знаю, – говорю я ей, – что делал бы, разведись мы с ней».
Я наблюдаю, как эти фразы порхают и растворяются в тишине гостиной, и снова смотрю на жену. Она прелестна во сне. «Ну, в общем, я пытался позвонить тебе. Ты не ответила. И мы пошли в дом. Он позвал меня на кухню взять пива. Я пошел. Спросил, надо ли разуться. Он засмеялся. Я спросил, стоит ли включить свет. Мы вошли в кухню и остановились друг напротив друга у стола в центре. Свет не включали. Лунный свет с улицы падал на его лицо. Он уставился на меня и просто смотрел, или мне так показалось. «Ты в порядке?» – спросил я.
– Грустно, – сказал он.
Он развернулся, распахнул освещенный яркой луной холодильник, достал бутылку пива и отвернул крышку. Отпил глоток и запустил бутылку в моем направлении по поверхности стола. Я посмотрел на бутылку. Он сказал:
– Ты хочешь свою собственную?
Вернулся к холодильнику. Вытащил другую бутылку, рукой снял крышку, потом остановился и стоял в оцепенении.
– Что? – спросил я.
Он прошептал:
– Слушай.
– Слышу как работает вентилятор, – сказал я.
– Я слышу ее дыхание, – сказал он.
– Хорошо.
– Я слышу, как она дышит, – сказал он.
Потом я тоже кое-что услышал. Я услышал шаги на лестнице. Сначала он были тихие, а затем его дочки, тараторя, ворвались в кухню. Вдруг стало очень шумно. Мы зажгли свет. Это были его девочки, на их лицах сияли улыбки. Они смотрели на меня и разговаривали с ним. Они так радовались, что он дома. Они так радовались тому, что могут позавтракать в темноте. Спросили у него, почему от нас пахнет дымом».
9.
Я сел к нему в машину. Спросил, как он связался с этой психотерапевтической группой, и он рассказал мне, что сам решил этим заняться. Сказал, что просто однажды проезжал мимо тюрьмы, вскоре после развода с женой, и подумал: наверняка там много одиноких парней, которые чувствуют то же, что и я. Он рассказал мне, как подошел к главным воротам, спросил начальника, спросил, может кому-нибудь из заключенных было бы интересно собираться в неформальной обстановке, чтобы поговорить о любви и о вещах, которые происходят в ее отсутствие. Начальник тюрьмы посмеялся, сказал, что сомневается, но что мой приятель может получить одноразовый пропуск, посидеть во дворе во время получасового обеда на свежем воздухе, и посмотреть, подойдет ли к нему кто-нибудь.
– И теперь догадайся, кто каждую неделю посещает мою маленькую группу из сорока пяти человек?
– Начальник тюрьмы?
– Он самый, – сказал мой друг. Он выглядел грустным и задумчивым. Люблю этого жирного придурка.
Мы сидели в его машине, разглядывая наши дома. Он замолчал. Мне нечего было добавить. На самом деле занятно было просто сидеть и смотреть на наши дома. Я сделал глубокий вдох.
– Тебе нравятся новые владельцы? – спросил он.
– Нормальные.
– Они разочаруют тебя, – сказал он. – Так всегда происходит с соседями.
На деле, у нас было мало общего, кроме границы наших участков.
Мы ехали молча, и когда добрались до тюрьмы, я узнал, что местная парковка представляет собой огромную, просто гигантскую, грунтовую пустыню, раскинувшую на много миль вокруг свои неоглядные просторы. Из любой конкретной точки в этой пустыне нужно пройти пешком около четверти мили, прежде чем окажешься у крошечного, окруженного забором с колючей проволокой, входа в тюрьму. Когда тебя пропускают внутрь, ты проходишь по лабиринту коридоров из темных цементных блоков без единого окна, тебя обыскивают и сканируют каждый раз при проходе через стальные решетки ворот, которых было около пяти между входом в тюрьму и открытой поляной, где в течение получаса позволяется обедать избранным заключенным. Мы с приятелем прошли всю дорогу, не сказав ни слова.
На поляне уже собралось много парней, дожидавшихся моего приятеля и бывшего соседа. Они сидели на траве, скрестив ноги. Пока мы шли к ним, они меня внимательно разглядывали. Я сел. Мой приятель вышел вперед и остался стоять. Он поднял руки и, когда все затихли, поблагодарил всех за участие и за желание «увидеть мир за пределами любви». Мужчины закивали. Мой приятель продолжал. Немного поговорил об «истинно большом несчастье, когда видишь любовь там, где ее на самом деле нет», и в качестве примера привел двух слепых псов, которых он полюбил в бытность интерном в ветеринарной клинике в Северной Каролине. Собаки умерли. Как-то утром он обнаружил, что они подохли. «Их больше не было», – сказал он, и его голос задрожал. Он щелкнул пальцами. Прочистил горло. Сказал, что он был опустошен. Сказал, что никогда не чувствовал себя настолько опустошенным. «Никакое опустошение не могло с этим сравниться», – сказал он. Он сказал, что думает, что мы все знаем, о чем идет речь.
Солнце припекало на редкость сильно. Я осмотрелся. Одно было ясно, судя по выражениям лиц мужчин в этой группе: говорить о дохлых псах было плохой идеей. Им это не понравилось. Кто-то встал. Из-за этого всполошились те, кто еще сидел. Мой приятель продолжал говорить, будто реплики, которыми перекидывались эти мужчины, были пустяшны, приглушены. «Дохлые псы, – сказал он, – это просто метафора. Они не умерли». Один мужик встал, толкнул другого в спину и назвал его сукой. Начальник двинулся с места, перекатился на колени и встал. Я попытался подняться, когда трое или четверо прижали меня к земле и набросились на начальника и того парня, которого обозвали сукой. Они пинали его по голове. Я видел как его голова перемещается по жутким траекториям. Страшно смотреть, как трое или четверо пинают человека по голове. Потом раздались выстрелы и двор заполнился оружием и криками. Я лежал лицом вниз, пригвожденный к земле. Я видел, что остальные тоже были пригвождены к земле.
10.
Я взглянул на жену. Она по-прежнему крепко спала. Ребенок должен родиться через несколько недель, и она спит так тяжело, урывками и в таких неестественных перекрученных позах, что я поражаюсь, когда замечаю эту безмятежность, временами проступающую в чертах ее лица. Мы женаты шесть лет. Мы тщательно все спланировали, стратегически выверили, несмотря на неестественный в моем возрасте сердечный приступ и двойное шунтирование, которое я пережил в прошлом году. Мы были готовы, по крайней мере я так думал до нынешнего потока разводов, воспитывать ребенка. Я говорю ей, что мне не по себе от того, что все кругом разводятся. «Это сумасшествие, – говорю я. – Что это вообще такое, эти разводы?»
11.
Со временем мой друг зажег еще несколько светильников и, похоже, расслабился. Он рассказывал девочкам какие-то дурацкие истории, а я пил вторую бутылку пива. Работал телевизор. Дочки рассказывали мне о своем любимом вечернем телешоу. Они говорили, что Джимми Киммел был «сутник», а еще он был немного «сишной». Обеим было не больше шести. Мой приятель посмотрел на меня и пожал плечами.
Тут я заметил, что на кухне материализовалась жена моего приятеля, одетая в голубой халат. В руках у нее была бутылка пива. Она стояла у входа, на границе кухни и гостиной. Она спросила, во сколько мы вернулись домой. Мой друг молчал, я ответил. Сказал, что был рад видеть ее снова.
– Да? – сказала она.
Она спросила меня о жене. Я спросил ее о газоне. Пожаловался на рынок недвижимости. Она сказала, что, как ни странно, любит африканское просо. Мы продолжали в том же духе несколько минут, болтая ни о чем, мой друг играл с дочками у телевизора. Она подошла ко мне и села на ручку кресла. Она казалась совершенно расслабленной. Лишь несколько раз взглянула в сторону мужа.
– Ну, – сказал я.
Я встал, намереваясь уходить. Она посмотрела на меня с удивлением.
– Ах, – сказала она. – Тебе не нужно никуда уходить.
– Нет, – сказал я.
– Выпей еще бутылочку пива, – сказала она.
Она встала и пошла к холодильнику, невзирая на мои замечания, что мне не стоит больше пить, открыла эту бутылочку, рукой открутив крышку, и принесла ее мне. Вернулась к холодильнику, открыла еще одну, и отдала ее мужу. Потом сказала мужу, моему приятелю, сесть на диван. Он послушался. Поднялся с пола и упал на диван. Она уселась к нему на колени.
– Что еще нового? – спросила она меня.
«Я слышал вы разводитесь», – хотел сказать я.
– Почти ничего, – сказал я.
Моя жена спит, пока я ей все это говорю. Я говорю, что, когда я поднял взгляд, я увидел, как они – мой приятель и его жена – целуются на диване и предположил сперва, что это было нечто вроде стремительного примирения. Я посмотрел на девочек, которые тоже смотрели на моего приятеля и его жену.
Они продолжали целоваться. Я снова посмотрел на девочек. По телевизору шла реклама. Я увидел язык жены моего друга, его рука скользнула внутрь ее халата. Оба до сих пор держали пиво. Как только он уронил бутылку на ковер, я встал. Погладил девочек по голове. Они восприняли это как сигнал.
Они вышли со мной из комнаты, как будто собирались проводить меня до двери. Вместо этого они сразу пошли вверх по лестнице в свои спальни.
– Спокойной ночи, – прошептал я им.
И они обернулись.
12.
Мой кардиолог уделял мне особое внимание, когда я лежал в больнице с сердечным приступом и готовился к операции. Он часто заходил в мою палату. Мало разговаривал, но с какой-то серьезной решимостью проверял показания приборов, листал страницы, вбивал что-то в свой компьютер. Вечером накануне операции, когда уже никого не было, он вошел ко мне в палату и закрыл дверь. Сел на край кровати. Сказал:
– Знаешь, что тебе нужно?
– Обняться?
Он посмотрел на часы:
– Я считаю, что большинству сердечников нужен кто-то, кто напугает их до полусмерти.
– Хорошо, – сказал я.
– Если ты не поменяешь образ жизни...
Он посмотрел на меня и достал из кармана халата макет человеческого сердца, впился пальцами в макет и начал рвать его на части. Он раскидал резиновые обрывки по простыням и ушел.
13.
– Давай, – сказала старшая дочь.
Она звала меня. Я пошел за ней. Поднявшись по лестнице, мы повернули направо и вошли в комнату, освещённую огнями свечей. На стенах комнаты были чучела убитых на охоте животных. Я уперся взглядом в голову зебры.
– Господи Иисусе, – сказал я.
Старшая дочь рассказала мне, что зебру зовут Беверли. Лису звали Ленни, фазана – Дженнифер, а дикая индейка вообще никак не звалась, потому что ее убили только этим утром.
14.
Я поднимаю голову с коленей жены и сажусь в кровати. Передвигаю диванные подушки, слегка подпрыгиваю, чтобы разбудить ее. Она просыпается. Улыбается. Потирает лицо. Потягивается и опускает руки на живот, к нашему малышу, шевелящемуся внутри. Она говорит, что чувствует себя адски плохо, я говорю, что понимаю. Она закатывает глаза. «Отнеси меня наверх», – говорит она. Я думаю. Думаю, стоит ли нести ее. Думаю о том, сколько она весит. «Давай же», – говорит она. Я просовываю руку ей под ноги. Поддерживаю спину. Поднимаю. Ее глаза закрываются. Рот округляется. Прохладно. Дорожка из гравия освещена лишь слабым светом луны. Дует ветерок. Взывают сверчки. Я слышу, как волны бьются о берег. Слышу, как моя лодка трется о деревянный пирс. Швартовочные тросы ноют от натяжения. В хижине темно. Я укладываю жену в скрипучую кровать. Распрямляюсь и смотрю на ее силуэт. Было не просто донести ее. И зачем мы забрались так далеко.
Публикуется с разрешения автора и издательства (с) Christopher Merkner (с) Coffee House Press Перевод Антона Платонова специально для Esquire Kazakhstan Иллюстрации Нины Терлецкой
